|
||||
|
ЮЛИАН Flavius Claudius Iulianus Родился в 331 или весной 332 г., ум. 26 июня 363 г. Цезарь с 6 ноября 355 г. Правил на Западе под именем Imperator Caesar Flavius Claudius lulianus Augustus с февраля 360 г. не признанный императором Констанцием II, а после его кончины, в ноябре 361 г., до своей смерти единолично во всей империи. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ Сводный брат Константина Великого Юлий Констанций был женат дважды. Сначала он женился в Италии на девушке из местной аристократической семьи по имени Галла. Она в 325 г. родила мужу сына, по ее имени названного Галлом, и через год умерла. Вдовец переехал в Грецию, в Коринф, а спустя год — в Константинополь. Здесь он женился повторно. Его избранницей стала Базилина, чья семья владела огромными поместьями в странах Малой Азии и на Балканах. Ее отец — Юлиан — занимал высшие государственные должности, в честь деда и был назван мальчик, родившийся в 331 или весной 332 г. Базилина разделила судьбу Галлы и умерла очень рано, вероятно, так и не оправившись после родов. Поэтому Юлиан, так же как и его единокровный брат Галл, не знал своей матери. Однако он всегда вспоминал ее с нежностью и спустя многие годы написал: «Она родила меня, как первого и единственного сына, и через несколько месяцев умерла. Таким образом, Дева без матери, Афина, уберегла ее, молодую и прекрасную женщину, от многих несчастий». Юлиан до конца своих дней бережно хранил драгоценности, принадлежащие некогда его матери. Но самым ценным, что оставила Базилина в наследство своему сыну, был ее домашний учитель, Мардоний. Этот раб, евнух, носивший персидское имя и несколько презрительно прозванный скифом, поскольку был родом из северного Причерноморья, оказался лучшим эллином, чем многие уроженцы Афин, поскольку по-настоящему любил греческую культуру и умел другим привить к ней любовь. В аристократическом доме матери Юлиана ценились старые языческие традиции, хотя сама ее семья была уже христианской. Их родственником являлся известный в то время епископ Евсевий, пастырь общины в Никомедии, арианин, крестивший в 337 г. самого Константина Великого. Как только этот император скончался, были убиты — интересно, по чьему приказу? — многие члены правящей фамилии, в том числе и Юлий Констанций. Таким образом, его сыновья — единокровные братья — стали круглыми сиротами, а имущество конфисковали. Под свою опеку мальчиков взяли родственники Базилины и епископ Евсевий. Детей разделили: Галла отправили в Эфес, а Юлиана в Никомедию, а затем в Константинополь, когда его опекун занял епископскую кафедру в этом городе. Но воспитанием мальчика по-прежнему занимался Мардоний. По всей вероятности, этот любитель античной языческой литературы тоже был христианином. Во всяком случае, Юлиан читал не только классических поэтов прошлых веков, но и святые писания новой веры и позднее неплохо в них ориентировался. Не разделял Мардоний — как и многие христиане — всеобщего тогдашнего увлечения театральными зрелищами, что подтверждает и сам Юлиан: «Впервые я их увидел, когда моя борода стала уже длиннее волос на голове. Впрочем, и тогда я не бывал в театре по собственной воле». Не мешает напомнить, что в театрах в ту пору ставили не классические драмы или произведения Софокла, а по большей части пантомимы, представляющие самые разнузданные сцены из не слишком традиционной мифологии. Мальчик отличался, что следует из многих его высказываний, особой чувствительностью к красоте природы. Вот как он описывает прелести небольшого деревенского имения, где в детстве провел много счастливых дней, и которое позже он подарил приятелю: «Если выйти из дому и стать на пригорке, можно окинуть взглядом Пропонтиду, островки и даже город, названный именем благородного властителя (…). Дорога бежит среди вьюнков, тимьяна и пахучих трав. Когда отдыхаешь и читаешь, вокруг царит блаженная тишина. А если глазам нужен отдых, как приятно любоваться кораблями и морем! Когда я был совсем маленьким, именно такое место летнего отдыха казалось мне самым лучшим. Есть там и недурные источники, прекрасные места для купания, сады и деревья. Когда я вырос, я очень тосковал по минувшим безмятежным временам». В 342 г., вероятно из политических соображении. Констанций решил отправить обоих мальчиков подальше от больших городов в отделенную и малонаселенную провинцию. Пришлось расстаться с морем, Константинополем и Никомедией, домом и тихим селом, а также с Мардонием. Много лет спустя Юлиан признавался, что разлука с верным учителем была для него особенно тяжкой. Братьев отвезли на восток, в Каппадокию, где находилось императорское имение Мацеллум, расположенное, впрочем, в весьма живописной местности среди холмов, ручьев, лесов и садов. В распоряжении мальчиков была многочисленная прислуга, они могли учиться, заниматься гимнастикой, ездить верхом и охотиться; последними развлечениями увлекался в основном Галл. Но длительное шестилетнее пребывание там имело и свои отрицательные стороны. Опять предоставим слово Юлиану: «Мы жили в чужом имении на положении узников, строго охраняемых в персидских крепостях. Никто посторонний не мог с нами общаться. Прежним знакомым не позволялось нас навещать. Мы были отрезаны от сколько-нибудь серьезного образования и каких бы то ни было культурных контактов». Вероятно, уже тогда оба молодых человека крестились и даже занимали в местных общинах должности низших священнослужителей, скорее всего — так называемых лекторов (чтецов). Построили они и часовню в память знаменитого в тех краях мученика со странным для нас именем — Мама. Весной 347 г. Мацеллум посетил сам цезарь Констанций. Приехал он в основном поохотиться, но Галл, который был старше Юлиана и отличался ловкостью в верховой езде и стрельбе, видимо, понравился императору, поскольку уже в начале 348 г. был призван в Антиохию ко двору. Чуть позже позволили уехать из Мацеллума и Юлиану, который отправился в родные края, в Константинополь и Никомедию. В этих городах поочередно в частной школе риторики вел занятия Либаний, выходец из Антиохии, пожалуй, самый блистательный языческий интеллектуал IV в., которому тогда исполнилось тридцать с небольшим. Оба, студент и мастер красноречия, чувствовали взаимную симпатию и внимательно приглядывались друг к другу, но только издалека, так как Юлиан мог слушать лекции только христианского ритора, некого Гекеболия, личности не слишком выдающейся. Так выглядела толерантность на практике, а молодой человек не хотел обращать на себя внимание доносчиков. Учился он прилежно, скупал старые книги, и на всякие зрелища не ходил. Затем Юлиан перебрался в Пергамон, а оттуда в Эфес. Именно там он встретился с мыслителями, благодаря которым совершился переворот в его религиозных убеждениях. Он отступил — пока только тайно, в глубине души — от христианства и стал приверженцем старых богов. Нам не много известно об обстоятельствах этой решающей перемены, которая тогда потрясла только психику молодого принца, а спустя чуть более десятка лет самым решительным образом отразилась на судьбах всей империи. Сам он, обычно весьма многословный, в этом деликатном вопросе хранит молчание, а Либаний ограничивается общими словами: «Встретился он наконец с людьми, знающими учение Платона. От них и услышал о богах и демонах — настоящих создателях этого мира и его спасителях. А также о том, чем является душа, что ее очищает, каковы причины ее взлета и падения, что тянет ее в пропасть, а что возносит, что является ее тюрьмой, а что свободой. Впустил он в свою душу красоту правды, будто вернул в большой храм статуи богов, прежде замаранные грязью, но делал вид, что все по-прежнему, ибо сбросившему маску грозила серьезная опасность». Среди наставников особое впечатление произвел на молодого человека Максим. Его современник даст такое описание: «Будучи еще молодым человеком, я встретил его, уже старика, и слышал его голос. У него была длинная седая борода, а в глазах отражалось каждое движение души. Глядя на него или слушая его, ты получал одинаково сильное впечатление необыкновенной гармонии. Каждый, кто с ним общался, поражался живости его взгляда и плавности речи». Максим считался мудрецом и чудотворцем, а направление, которое он представлял, и которое произвело огромное впечатление на Юлиана, называлось теургия — «богодействие», то есть действие вместе с богами и через их посредство. Учение это отвергало магию и гласило, что только тот, кто получил серьезное философское образование и освободился от низменных страстей, может стать теургом. Ибо только такой человек оживлен бескорыстной любовью к богам и людям. Короче говоря, это была мистическая философия в неоплатоническом духе. Однако в выборе Юлиана крылось нечто большее, чем просто наивный — и весьма распространенный во все времена — интерес к тайному знанию. Юноша был приверженцем древней культуры, ее богатства и разнообразия, считал ее наивысшей ценностью, созданной многими поколениями, а веру в прежних богов понимал как неотъемлемый элемент этой культуры. При этом он полагал — справедливо или нет, это уже другое дело — что христианство является по отношению к этой культуре, понимаемой как единое целое, чем-то чужеродным и даже враждебным. Отвращали молодого человека от новой религии нескончаемые и все более острые внутренние споры по догматическим и персональным вопросам. В конце концов, были и личные причины: прежде всего неприязнь к набожному Констанцию, который, как считал Юлиан, был причастен к семейной резне. Поздней осенью 354 г. Галл, брат Юлиана, уже несколько лет управлявший восточными провинциями, был отозван Констанцием и заплатил в Аквилее жизнью за допущенные злоупотребления властью. Затем начались суды над бывшими его офицерами и придворными. Наконец, в Италию, где тогда пребывал император, вызвали и Юлиана. Его неофициально обвинили в самовольном отъезде из Мацеллума несколько лет тому назад и в недавней встрече с братом, когда тот проездом развлекался в Константинополе, якобы с целью заговора против императора. Либаний пишет: «Его окружали вооруженные стражники, смотревшие дико и разговаривавшие грубо. По сравнению с тем, что они вытворяли, даже тюрьма могла показаться пустяком. Ему не позволяли задерживаться где-нибудь подольше и постоянно перевозили с места на место, что само по себе было мучительно. Он все это терпел, хотя обвинений ему не предъявили». В течение 7 месяцев Юлиан не мог добиться даже аудиенции у цезаря. Только в конце весны 355 г. дела приняли лучший оборот благодаря заступничеству императрицы Евсевии. Юлиан получил разрешение вернуться в унаследованное от матери имение под Никомедией, а затем, к огромной своей радости, ехать в Афины для продолжения образования. «Евсевия знала, как я люблю учиться, а также понимала, что те края способствуют серьезным занятиям. (…) Я мечтал об этом давно и больше, чем о горах золота и серебра». Афины, куда Юлиан приехал летом 355 г., были сравнительно небольшим городом, бедным, не раз разграбленным, но все еще полным прекрасных памятников старины. Но главное — это был крупный образовательный центр. Сюда стекались толпы молодежи со всей империи, чтобы изучать свободные науки в государственных и частных учебных заведениях. Старейшей и все еще самой знаменитой из философских школ была Академия, основанная Платоном семь столетий назад. Но, как и в других местах, больше всего слушателей собирали не философы, а мастера красноречия, называемые также софистами, ибо и здесь в те времена риторику считали вершиной образования. Жизнь и нравы афинских студентов того периода хорошо нам известны по разным источникам. Автором одного из них является Григорий из Назианза, ставший позднее непримиримым врагом Юлиана, а как раз в 352–358 гг. вместе со своим другом Василием проходивший курс обучения в Афинах. Впрочем, они были не единственными христианами среди учащейся молодежи, попадались даже профессора — приверженцы новой веры. Григорий встречался с Юлианом и оставил его описание. «Приехал он вскоре после событий, связанных со смертью его брата; вымолил это у императора. Были две причины для поездки: первая, скорее похвальная, это желание узнать Элладу и афинские школы. Вторая, скорее секретная и малоизвестная, это стремление посоветоваться с тамошними прорицателями и обманщиками. Именно тогда я правильно оценил этого человека, хотя обычно такими вещами не занимаюсь. Но если хорошим предсказателем является тот, кто в состоянии сделать правильные выводы, то к предсказаниям меня склонило его ненормальное поведение и странная внешность. Я счел, что ничего хорошего не сулит эта хилая шея и колеблющиеся, будто весы, плечи, бегающие возбужденные глаза и взгляд безумца, нервная и шаткая походка, нос, гордо задранный и пренебрежительно фыркающий, вечно одно и то же шутовское выражение лица, невразумительный смех, всегда раздающийся неожиданно, беспокойные движения головы и прерывистая задыхающаяся речь, беспорядочные и случайные вопросы и такие же ответы». Это поразительное по своей пристрастности, прямо-таки дышащее ненавистью и поэтому столь саморазоблачительное свидетельство. В нем сильно преувеличены некоторые черты внешности и характера, возможно, действительно присущие Юлиану, как, например, определенная нервозность. Можно этому противопоставить другие портреты, хотя бы того же Либания, относящиеся к афинскому периоду: «Восхищали как его высказывания, так и скромность. Он слова не мог вымолвить, чтобы не покраснеть. Хотя все могли пользоваться его благосклонностью, доверял он только самым благородным». Так каким же был тогда Юлиан? Скромным и стыдливым или грубым и заносчивым? Вот еще одно описание внешности, сделанное человеком, хорошо знающим Юлиана, и старающимся в то же время сохранить беспристрастность, столь важную для историка. Видел он его таким: «Роста был среднего, волосы имел мягкие, как бы уложенные гребнем, бородку волнистую, острую. В приятных глазах светился огонь, что свидетельствует об уме. Брови красивые, нос очень прямой, рот великоват; нижняя губа немного свисала. Спина крепкая, слегка сутулая, плечи широкие. От макушки до самых кончиков ногтей был мужчиной правильного сложения, отличался силой и хорошо бегал». И что же там все-таки с глазами Юлиана — они приятны и светятся умом или, как хочется Григорию из Назианза, возбуждены и бегают, как у помешанного? Явление это хорошо известно и снова и снова находит подтверждение в сегодняшней жизни: два по-разному настроенных наблюдателя иначе видят и объясняют одну и ту же черту или манеру поведения человека. Что одному кажется живостью ума, другой осуждает как проявление сумасшествия. Во всяком случае, в глазах и взгляде Юлиана должно было быть нечто такое, что поражало встречавшихся с ним людей, привлекая одних и отталкивая других. А как объяснить расхождение в описаниях Григория и Аммиана такой определенной вещи, как телосложение: спина и плечи? Наверняка оба говорят правду, только о двух разных периодах жизни Юлиана. Афинский студент выглядел хилым и тщедушным, затем условия изменились, и Юлиан окреп и возмужал. Уже ближайшее будущее опровергнет недоброжелательные оценки Григория из Назианза. Выяснится, что Юлиан — это не смешной и неуверенный в себе мальчишка, а настоящий мужчина, который в тяжелейших условиях сумеет противостоять всем опасностям, это вождь и политик, смело идущий к намеченной цели, осознавая при этом свои обязанности по отношению к государству и обществу. Источником кардинальных перемен в жизни и одновременно испытанием характера молодого человека стали события, происходившие как раз во время афинской учебы очень далеко от Эллады, на Рейне, летом 355 г. Это они послужили причиной очень краткого — всего трехмесячного — пребывания Юлиана у подножия Акрополя. Ведь уже в начале октября ему было велено незамедлительно явиться в Медиолан к императорскому двору. ЦЕРЕМОНИЯ В МЕДИОЛАНЕ Молодой студент в слезах прощался с Афинами. Он был обеспокоен и подавлен, тем более что в приказе прибыть в Медиолан не называлась причина вызова, что только усугубляло худшие опасения. Пришлось, однако, подчиниться срочному распоряжению, а затем и покорно согласиться на предложенную милость — провозглашение цезарем при Констанции II. «Я подчинился. Изменил одежду, окружение, занятия, место и образ жизни. Недавние простота и бедность сменились вокруг меня пышностью и величием. Чуждость всего окружающего вызвала серьезное потрясение моей психики. Не потому, что меня ослепило свалившееся счастье, а как раз наоборот: не будучи расположен к таким вещам, я не видел во всем этом ничего привлекательного. (…) Я категорически отказывался от всякого панибратства с людьми во дворце. Они же столпились, будто у цирюльника. Обрили мне бороду, нарядили в военный плащ. Сделали из меня, как им тогда казалось, нечто вроде забавного вояки. Мне совсем не нравилась страсть этих низких людишек к нарядам. Я не мог, как они, ходить, гордо поглядывая вокруг; я всегда скромно опускал глаза, как некогда научил меня мой педагог. И поэтому поначалу они надо мной насмехались, потом начали подозревать, а в конце концов, завидовать». 6 ноября 355 г. состоялась торжественная церемония. Солдаты всех расквартированных в Медиолане частей были построены в полном вооружении на площади перед высокой трибуной, вокруг которой собрались знаменосцы с орлами и штандартами. На трибуну взошли Констанций и Юлиан. Император взял молодого человека за правую руку и произнес речь, во время которой набросил ему на плечи пурпурный плащ и заявил, что провозглашает того цезарем. Армия встретила это сообщение радостными возгласами. По окончании императорской речи снова раздались приветственные крики толпы, но их заглушили мощные металлические звуки: это солдаты ритмично били коленями в щиты, демонстрируя таким образом свое удовлетворение; в то время как удары по щитам копьями означали боль и гнев. Аммиан Марцеллин, свидетель церемонии, рассказывает: «Все взгляды обращены были к щуплой фигурке юноши, облаченного в цесарский пурпур. Его глаза казались привлекательными, но было в них, одновременно, нечто, вызывавшее страх. Возбуждение сделало приятное лицо еще более симпатичным. Каждый из присутствующих рад был бы заглянуть в его душу и найти ответ на свой вопрос: Каким же ты станешь правителем? Спустились с трибуны. И новая милость явлена цезарю: император изволил пригласить Юлиана в свою повозку. Кортеж направился ко дворцу». Но дворец был в то же время тюрьмой. Описание самого Юлиана весьма убедительно: «Таким образом, мне поспешно всучили имя и плащ цезаря. Началось время неволи. Каждый день над головой висел страх смерти, огромный и удушающий. Запертые ворота. Бдительная стража. Обыски моих людей, чтобы ни в коем случае не пронесли записок от друзей. Прислуга чужая. С трудом удалось забрать во дворец четырех своих служителей, чтобы иметь рядом хоть кого-нибудь, к кому я привык. Двое из них совсем мальчишки, двое — чуть постарше. Один из них знал, что я верю в богов, и тайком старался помогать мне, как мог. Одному врачу я доверил свои книги. (…) Я стал таким мнительным и пугливым, что, когда кто-нибудь из друзей собирался навестить меня, я отказывался от встречи, хоть и вопреки своей воле. Ведь я опасался, что общение может принести несчастье и мне, и гостю». Больше всего Юлиану не хватало книг. Покидая Афины, он все-таки надеялся туда вернуться. К счастью, императрица Евсевия подарила ему много произведений разного содержания. «Тем самым она утолила мою жажду, хотя я поистине ненасытен, если речь идет о такого рода интеллектуальном общении. Как только выдавалась свободная минутка, я тут же обращался к своим сокровищам, вспоминая с благодарностью ту, что столь милостиво мне их даровала». Среди этих книг попалась одна, оказавшаяся особенно полезной — произведение Юлия Цезаря четырехсотлетней давности — «Записки о галльской войне». Ведь очень скоро случилось вполне ожидаемое. «В самый разгар зимы Констанций отправил меня во главе трех сотен солдат в страну галлов, сотрясаемую тогда грозными событиями». Посылая туда Юлиана, император даже не предупредил его о том, что при дворе уже несколько дней как было известно, но держалось в строжайшей тайне, чтобы не пугать горстку людей, направляемых на верную смерть. Кельн пал! АРГЕНТОРАТ В начале декабря 355 г. Юлиан выехал из Медиолана в Галлию как назначенный Констанцием цезарь. Альпийские перевалы были покрыты снегом, но горные дороги удалось преодолеть сравнительно легко благодаря исключительно солнечной, почти весенней погоде. Спускаясь по долинам рек, добрались до Виенны на Родане, где задержались подольше. Еще несколько месяцев тому назад этот скромный невзрачный студент изучал философию и риторику в Афинах, свободный и беззаботный. Живя многие годы среди книг, он никогда до этого не занимался политикой, никогда не служил в армии, не увлекался зрелищами и спортом. И именно ему, любителю античной поэзии и приверженцу мистической философии, выросшему в странах с ласковым климатом, пришлось теперь по воле императора, своего кузена, защищать в качестве военачальника северные рубежи от нападения германцев. А ведь ему не хватало не только военного опыта, но и просто людей, умеющих держать оружие. Современник так характеризует отряды, базирующиеся в Галлии: «Они уже привыкли к поражениям и предпочитали отсиживаться за крепостными стенами, атаковать же не умели, ибо дрожали от страха». Сам Юлиан привел в Виенну всего триста шестьдесят вооруженных человек, о которых заметил презрительно: «Они умеют только молиться!» Среди них и в самом деле было много христиан. Одним из прибывших с цезарем был девятнадцатилетний Мартинус или Мартин, родившийся, скорее всего, в паннонском городке Савария (ныне Сомбатхей в Венгрии) в семье офицера и воспитывавшийся потом в Ticinum в Италии, а затем в возрасте всего 15 лет принятый на службу в дворцовую кавалерию. А поскольку охрана Юлиана формировалась как раз из этих войск, солдат Мартин увидел Галлию благодаря молодому цезарю. Эта страна стала ему второй родиной, ибо, оставив в скором времени службу в армии, Мартин получил чуть позже — прославившись своей набожностью — должность епископа в Caesarodunum Turonum, нынешнем Туре, а после смерти был причислен к лику святых и назван небесным покровителем христианской Франции. Зимой всякие военные действия замерли, и даже германцы, привыкшие к холодам и снегу, прекратили набеги. Несколькими годами позже Юлиан так описывал сложившуюся ситуацию: «Орды германцев преспокойно жили вокруг разрушенных городов Галлии; а таких было 45, не считая крепостей и укрепленных пунктов. Варвары заняли огромную территорию по эту сторону Рейна, от его истоков аж по самое устье. Находящиеся к нам ближе всего отступили на 300 стадиев [около 50 км] от берега реки, а между нами лежала в три раза большая пустынная полоса, ибо постоянные вторжения не позволяли даже пасти там скот». Юлиан посчитал, что эти дарованные мирные месяцы следует использовать так, чтобы потом, когда настанет время испытаний, не в чем было себя упрекнуть. Он знакомился с жизнью военного лагеря, тренировался даже ходить парадным шагом под музыку флейты, изучал знаки разных военных формирований и их тактику ведения боя. Но наряду с этим цезарь учился вести себя с должным достоинством во время аудиенций и выступлений перед представителями разных сословий и, в конце концов, разбираться в хитросплетениях бюрократии. Нужны были серьезные умственные усилия, а также немалая выносливость и сила воли, чтобы в течение нескольких месяцев столь кардинально изменить свой образ жизни и привычки. А ведь для человека, прибывшего с греческого Востока, здесь все было чуждым: и климат, и природа, и обычаи, и даже язык, ведь вокруг говорили исключительно по-латыни, а он привык к речи эллинов. Юлиан придерживался строгой дисциплины, вел практически аскетический образ жизни, питался как обычный рядовой солдат. Днем он участвовал в учениях, проводил совещания, отдавал распоряжения. Для работы над собой оставалась только ночь. Цезарь разделил ее на три части. Сначала он отдыхал, потом решал текущие канцелярские дела, подписывал документы, составлял отчеты для Констанция. Затем читал, молился своим богам, учился. А книг у него было немало, благодаря императрице Евсевии. Сопровождала его жена, Елена, с которой они обвенчались в ноябре 355 г. в Медиолане. Была она родной сестрой нынешнего императора и дочерью Константина Великого и Фаусты. Поскольку Фауста погибла по приказу своего мужа уже в 326 г. — обвиненную в супружеской измене ее заперли в раскаленной бане — Елене уже исполнилось тридцать, а значит, лет на семь, а то и больше, она была старше мужа. Этот брак был продиктован очевидными политическими соображениями, поэтому трудно предположить, что Юлиан испытывал к навязанной супруге горячие чувства. В своих столь многочисленных письмах он не упоминает о ней вовсе, даже тогда, когда прямо-таки следовало сказать о жене хоть несколько теплых слов. Был он также крайне сдержан и в частных письмах к супруге, раз уж сам признается: «Все боги и богини мне свидетелями, я бы вовсе не обиделся, если бы кто-нибудь опубликовал мою к ней корреспонденцию, столь сдержана по тону она была». Впрочем, если верить Либанию, вопросы эротики Юлиана совсем не интересовали. Сей ритор пишет в свойственном ему помпезном стиле: «Он же столь далек был от расспросов (как это делали многие властители), есть ли у кого красивая жена или дочь, что, не соедини его богиня Гера брачными узами, он бы умер, зная о любовных делах лишь понаслышке». Елена родила ребенка, мальчика, уже в первый год пребывания в Галлии. Вероятно, умышленные действия повитухи, которая неправильно перерезала пуповину, послужили причиной смерти младенца. А сделать она это могла по приказу Констанция или его жены, Евсевии, бесплодной и опасающейся — такие ходили слухи, — чтобы наследником династии не стал сын Юлиана. Как мы уже рассказывали, Елена вернулась на какое-то время в Италию и весной 357 г. посещала вместе с императорской четой Рим, но затем снова отправилась к мужу в Галлию. По слухам, во время поездки в Италию Евсевия пыталась отравить Елену. Постоянно болевшая жена Юлиана ушла из жизни уже в 360 г. Мы практически ничего о ней не знаем, кроме того, что была набожной христианкой. Но вместе с сопровождавшими Елену придворными ко двору Юлиана прибыл евнух Евтерий. Похищенный мальчиком в Армении, он попал в конце концов во дворец Константина Великого, где выделялся умом, честностью и тягой к учению. Затем он находился при дворе Констанция II, а когда Юлиан женился на Елене, был назначен препозитом (блюстителем) священной опочивальни — прекрасный титул! — а попросту начальником домашней прислуги молодого цезаря. С тех пор Евтерий служил новому господину верой и правдой, чем в некотором роде обманул доверие Констанция, который ожидал, что евнух будет доносить обо всем, происходящем при дворе в Галлии. Среди домашних Юлиана оказался также лекарь Орибазий родом из Пергама, который изучал медицину в Александрии, потом практиковал в городах Малой Азии, где и встретился с Юлианом, тогда еще студентом. Между ними завязалась крепкая и сердечная дружба, и они почти не расставались. Это Юлиан подсказал Орибазию сделать выписки из работ ученого и врача Галена, жившего двести лет назад. Написанное в скором времени произведение должно было служить начинающим медикам введением в труды мастера, а посвящалось инициатору работы. По наущению того же Юлиана его друг составил в Галлии нечто вроде медицинской энциклопедии. Было в ней как минимум 60 томов, часть из них сохранилась. И это начинание было посвящено молодому цезарю. Орибазий связал часть своей жизни с Юлианом, участвуя в его планах, кампаниях и трудах; а через несколько лет ему пришлось стоять у смертного одра этого правителя, напрасно пытаясь остановить льющуюся из глубокой раны кровь. Потом врачу пришлось отправиться в изгнание за пределы империи, к готам. Спустя годы, он получил прощение и поселился в Константинополе, где написал еще много трактатов по медицине. Его труды, сохранившиеся частично в греческих оригиналах, а частично в латинских переводах, столетиями служили одним из главных источников медицинских знаний для Византии, средневековой Европы и даже арабского мира. Очень жаль, что воспоминания Орибазия о Юлиане не сохранились, но весьма возможно, что ими пользовался Аммиан Марцеллин. Во всяком случае, мы можем предположить, что многое из того, что уже было и еще будет здесь сказано о жизни Юлиана, известно, пусть и косвенно, от его друга и личного врача. А вот сама фигура и судьба Орибазия, который побывал в стольких странах, пережил столько приключений и встречался со столькими выдающимися людьми, служат идеальным материалом для исторического романа. Весной 356 г. Юлиан отправился в поход. Двигался он из Виенны на север до Durocortorum Remorum, то есть нынешнего Реймса, пункта сосредоточения римской армии. Путь был долгим и опасным, так как проходил под постоянной угрозой нападения германцев. Они недавно пытались штурмовать Августодунум, но в последний момент были отброшены горсткой защитников — солдат и ветеранов. Приходилось поэтому совершать длительные переходы по лесным дорогам. Юлиан проводил кампанию в основном в среднем течении Рейна против алеманнов. Еще несколько лет тому назад там были цветущие города, в том числе: Konfluentes, Augusta Nemetum, Wangionum, Mogoncjakum (Мюнстер); теперь, в 356 г., все они лежали в руинах. Наконец вошли в разрушенный Кельн — там торчала только одна башня — и заключили мир с франкскими вождями. Наступила осень, а поскольку на Рейне не хватало всего — не только продовольствия, но и просто крыши над головой, — в Кельне оставили только гарнизон, а главные силы армии отошли в глубь страны и остановились на зимние квартиры в Агендикуме (ныне Санc). Среди солдат уже не было Мартина, будущего святого, он уволился со службы еще на Рейне, скорее всего под Вангионумом. Войска пришлось рассредоточить по городам и крепостям для их защиты, а с другой стороны, для лучшего снабжения продовольствием. Юлиан же с небольшими силами остался в Агендикуме. Германцы, узнав об этом от перебежчиков, неожиданно атаковали город. Осада длилась целый месяц, но в конце концов нападавшие отступили. Критических моментов было много, но никто не пришел цезарю на помощь, хотя командующий кавалерией Марцелл находился сравнительно недалеко. Возможно, он надеялся избавиться от обременительного начальника или имел еще более далеко идущие планы? Когда об этом стало известно Констанцию, Марцелла отозвали, и он вынужден был вернуться на свою родину — в городок Сердика. Он еще пытался при дворе обвинять Юлиана, но эти обвинения перечеркнул Евтерий, специально отправленный к императору и представивший в придачу хвалебные речи в честь Констанция и его супруги, составленные Юлианом в пылу сражений. Польза из всего этого дела была та, что Юлиан получил дополнительные полномочия, а место Марцелла как начальника кавалерии занял опытный офицер Север. Он же привез план кампании 357 г. Предполагалось взять алеманнов на северном и среднем Рейне как бы в клещи. На северном фланге должна была действовать армия Юлиана, а на южном корпус под командованием Барбациона, расположенный в окрестностях Базилии (Basilia), сегодняшнего Базеля. Весной начались военные действия, и обе армии сблизились. Но алеманнским воинам удалось проскользнуть между римскими передовыми отрядами и неожиданно ударить на Лугдунум. Города они не взяли, но опустошили окрестности, собрав богатую добычу Правда, посланная Юлианом кавалерия разбила германцев и отобрала большую часть трофеев, но те нападавшие, что отступали ближе к позициям Барбациона, прошли беспрепятственно. Этот военачальник не только не атаковал варваров, но и прогнал двух офицеров-наблюдателей Юлиана в этом районе. Мало того, он отправил цезарю жалобу, якобы офицеры пытались взбунтовать его солдат. Скорее всего, дошло до перебранки между людьми Барбациона и офицерами Юлиана, обвинявшими коллег в бездействии. Император Констанций поверил жалобщику и уволил тех двоих со службы. Этот конфликт служит хорошей иллюстрацией отношений между офицерами тогдашней римской армии, не доверявших и мешавших друг другу. Следует также отметить, что одним из тех офицеров Юлиана, наказанных императором за служебное рвение, был трибун Валентиниан. На действительную службу он вернется через два года, то есть в 359 г., сделает быструю карьеру, а в 364 г. будет провозглашен цезарем. В анналах истории имя будущего императора впервые появляется как раз в связи с этим спором о пропуске алеманнов под Базелем. Свою штаб-квартиру Юлиан устроил в городе Tres Tabernae, чуть севернее Аргентората, то есть Страсбурга, так как именно в этом направлении германцы чаще всего атаковали Галлию. Юлиан строил укрепления и запасался продовольствием, собирая богатый урожай зерна, посеянного несколькими месяцами ранее алеманнскими поселенцами. Часть его солдат занималась жатвой, а другая их охраняла, так как угроза нападений по-прежнему была актуальна. Армии Юлиана приходилось рассчитывать только на то продовольствие, которое добывала сама, так как Барбацион задерживал поставки, идущие из Италии, под тем предлогом, что они могут быть перехвачены варварами. Впрочем, этот славный военачальник после поражения на верхнем Рейне разместил свои отряды на зимних квартирах — хотя лето было в разгаре, — а сам уехал на юг, за Альпы. Таким образом, Юлиан мог полагаться только на себя и своих людей. А тем временем в начале августа в Tres Tabernae явились послы алеманнов с наглым заявлением, что их бесчисленное войско форсировало Рейн под Аргенторатом. Возглавляют его несколько предводителей, в том числе и Хнодомар, несколько лет назад разгромивший цезаря Децентия и взявший многие галлийские города. А требуют они, чтобы римляне немедленно оставили земли, добытые потом и кровью. Разумеется, Юлиан отверг этот ультиматум, а послов велел задержать, чтобы те не могли рассказать своим о римских приготовлениях. В середине августа Юлиан вывел войска из лагеря и двинулся к Аргенторату. После нескольких часов марша с холма увидели руины города, а на поле перед ним толпы алеманнов, превосходящих по численности римлян как минимум втрое. Битва продолжалась с полудня до сумерек. Была она жаркой и кровопролитной и изобиловала критическими моментами. Правда, левое крыло, которым командовал Север, напирало, а вот на правом тяжелая кавалерия начала отступать. Юлиан немедленно кинулся туда, и узнать его издалека было легко по носимому при нем штандарту в виде пурпурного дракона на древке, развевавшегося по ветру. На призыв цезаря кавалерия повернула, но варвары тем временем атаковали пехоту. И она бы поддалась под ударами их мечей и топоров, если бы не подоспели когорты римских союзников — батавов. Окончился неудачей и следующий отчаянный штурм алеманнских воинов; германцы начали уступать и, в конце концов, в панике разбежались. С римской стороны пало двести пятьдесят три сражавшихся, в том числе четверо высших офицеров, с алеманнской же были тысячи погибших, а сотни утонули в реке. Это сражение стало одним из самых выдающихся триумфов римского оружия в борьбе с внешним врагом за многие десятилетия. И не стоит удивляться, что раздались возгласы, славящие Юлиана как августа. Тот страшно перепугался и принялся громко уверять, что это своеволие и анархия, а сам он о таком титуле и думать не думал. К счастью, в этот момент привели Хнодомара, пойманного в ближайшем лесу. Поначалу алеманнский вождь вел себя заносчиво, но потом струхнул, чему немало способствовала окружающая обстановка. Уже настала ночь, горели костры и факелы, легионеры с окровавленными мечами толпились вокруг, а глаза их пылали ненавистью. Варвар побледнел и упал на колени, слезливо умоляя сохранить ему жизнь. Юлиан отослал его Констанцию. LUTETIA PARISIORUM В конце лета 357 г. после победы под Аргенторатом Юлиан построил понтонный мост неподалеку от Мюнстера и перешел Рейн. Его солдаты опустошали германские земли на том берегу, жгли дома, построенные уже на римский манер, освободили попутно многих пленников, захваченных за рекой в предыдущие годы. Римляне дошли аж до покрытых лесом склонов гор — возможно, Таунус? — и наткнулись там на давно заброшенную крепость, построенную двести пятьдесят лет тому назад во времена императора Траяна. Юлиан оставил в ней сильный и хорошо снабженный гарнизон, а алеманны, опасаясь, чтобы он не задержался в их землях на всю зиму, заключили мир, клянясь всеми богами, что на крепость не нападут, а в случае необходимости даже доставят продовольствие. После этих успехов Юлиан вернулся за Рейн, поскольку уже начиналась осень. Начальник его кавалерии Север, который вел военные действия вблизи Кельна, тоже стал отступать к западу. Это он первый наткнулся на следы франкского отряда в шестьсот воинов, который, пользуясь отсутствием римских войск, вторгся на земли у Мозы, а затем занял развалины поселения на берегу этой реки. Юлиан немедленно повернул и окружил городок укрепленными кордонами. Наступил декабрь 357 г. Франки и не думали сдаваться, а Юлиан, заботясь о своих людях, не пытался их штурмовать. В январе ударили морозы, и римляне, опасаясь, что Моза замерзнет, и осажденные смогут уйти по льду, по ночам бороздили реку на лодках, разбивая непрочную еще корку. Оголодавшие и измученные франки сдались на пятьдесят четвертый день осады. Их отправили ко двору Констанция, чему тот был несказанно рад, так как пленники отличались высоким ростом и отличным телосложением; с тех пор они служили в римских частях. В связи с этим военным эпизодом Юлиан смог встать на зимние квартиры только в январе. Цезарь выбрал место на Сене, которое ему рекомендовали, расхваливая удачное местоположение и исключительную живописность. Называлось оно Lutetia Parisiorum, то есть Лютеция паризиев — маленького кельтского племени, некогда там жившего, но все чаще это поселение именовали коротко Parisii; речь идет, конечно, о нынешнем Париже. Первым писателем, упоминавшем о Лютеции, был полководец Юлий Цезарь, и сделал он это в I в. до н. э. Тогда заселен был только остров на Сене, называемый сейчас Ile de la Cite, где стоит собор Нотр-Дам. Затем в римские времена город быстро развивался, возникали жилые районы и крупные строения вне острова, особенно на левом берегу, о чем по сей день свидетельствуют развалины терм и амфитеатра. Но войны III в., нападения варваров и междоусобицы привели к тому, что Лютеция сильно уменьшилась в размерах, но все же понравилась Юлиану, а ведь он знавал многие славные средиземноморские метрополии. В городке на Сене он чувствовал себя хорошо и возвращался сюда как минимум дважды. Он был первым римским правителем, облюбовавшим Париж, его предшественники чаще всего делали своей резиденцией Трир. Перу Юлиана принадлежит и самая старшая дошедшая до нас похвала городу, первая в бесконечном ряду такого рода произведений. «Однажды я провел зиму в моей милой Лютеции; так галлы называют городок паризиев. Это небольшой остров на реке, весь окруженный стеной и с обеих сторон соединенный с сушей деревянными мостами. Река редко переполняется или мелеет, ее уровень практически одинаков летом и зимой. Речная вода чистейшая и очень приятная на вкус, ибо, живя на острове, приходится в основном пользоваться такой водой. Зимы здесь в основном мягкие. Скорее всего, это влияние моря, находящегося отсюда максимум в 9000 стадиев, так что время от времени сюда доносится его легкое дыхание, а морская вода обычно теплее пресной. Не могу сказать определенно, в этом причина или в чем ином, но факт остается фактом: зимы тут довольно солнечные. Виноград здесь вызревает неплохой, а некоторые умудряются выращивать и финиковые пальмы, которые на зиму как одеждой укрывают соломой или другим материалом, защищающим от вреда, какой мороз обычно наносит деревьям. В моем же случае зима оказалась более суровой, чем обычно. По реке плыли глыбы, похожие на мрамор. Вы, конечно, знаете фригийский камень; вот на него и походили эти белые куски хрусталя, так напиравшие друг на друга, что еще немного, и они сковали бы всю реку, покрывая ее, словно мост. Зима свирепствовала больше обычного, а жилище, где я спал, не отапливалось, хотя тамошние дома обычно подогреваются снизу при помощи печей. В моем тоже было все для этого подготовлено, но от отопления отказались, как мне кажется, из-за моего чудачества и той бесчеловечности, которая меня отличает по отношению к себе самому. Ибо я пытался привыкнуть к морозам, не разрешая обогревать дом. Морозы только усиливались, но я не позволял прислуге разжигать огонь, опасаясь, что тепло вызовет отсырение стен. Вместо этого я велел принести в дом золу и разложить на ней тлеющие уголья средней величины. И, хотя их было не много, они вытянули из стен всю влагу и так на меня подействовали, что я уснул. Голова у меня страшно разболелась, и я едва не задохнулся. Меня вынесли на улицу. Врачи посоветовали вызвать рвоту и избавиться от съеденного ужина, впрочем, весьма скромного. Я так и сделал и сразу почувствовал себя настолько лучше, что на следующий день уже мог нормально работать». Таковы воспоминания Юлиана о приключении в Лютеции. Вот если бы нам знать больше такого рода высказываний римских цезарей, высказываний естественных и непосредственных! Насколько более живо и образно представляли бы мы себе властителей империи многовековой давности, насколько более близки и понятны стали бы нам они, даже в своих странностях, в чем признается и сам Юлиан с некоторой самоиронией! К сожалению, он в этом смысле является абсолютным исключением, как, впрочем, и во многом другом. С опасностью германских нападений было покончено, а следовательно, надлежало сосредоточиться на внутренних проблемах Галлии, и особенно на положении бедных слоев населения, разоряемых как набегами варваров, так и фискальной политикой властей. Юлиан занялся этим в начале 358 г. Несмотря на сопротивление префекта Флоренция, он категорически запретил повышать налоги и пошлины, утверждая, что этого можно избежать, урезав расходы на содержание двора и администрации, а также взимая просроченные платежи с крупных землевладельцев, которые, используя продажных чиновников, как правило, платили мало или почти ничего. Дело дошло до открытого конфликта между цезарем и Флоренцием, который пожаловался императору Констанцию. Юлиан, однако, смело ответил на выговор: «Мы рады, если житель провинции, постоянно подвергаемый разным тяготам, заплатит хотя бы обычные налоги. А что говорить об их увеличении! Никакими пытками ничего не выжать из людей, пребывающих в крайней нищете!» И, представьте, с тех пор население Галлии чрезмерно не обременяли податями, а со временем их даже начали снижать. В 355 г., когда Юлиан туда прибыл, платили 25 золотых солидов с каждой территории, называемой capitulum, с которой должен был выставляться один рекрут. Пятью годами позже, когда цезарь покидал Галлию, общий налог с этой же площади составлял только 7 солидов. Во всяком случае, так утверждал Аммиан Марцеллин, соратник и почитатель Юлиана. Но даже злейший его противник, епископ Григорий из Назианза (известный также как Григорий Богослов), признавал позднее, когда говорил о правлении Юлиана во всей империи: «Воистину, прекрасный способ правления: снижать налоги, подбирать чиновников, карать воровство, удовлетворяя все прочие надежды бренного и сиюминутного представления о счастье — а одновременно собственной гордыни». Смысл этого злорадного и одновременно столь странного высказывания, по всей видимости, таков: правь Юлиан хуже, он поступал бы вернее, так как отвращал бы своих подданных от земного существования, что весьма похвально, ибо важно лишь царствие небесное, а властитель, готовя людей к нему, не должен искать бренной славы у современников. Весьма достойное внимания умозаключение, особенно в кризисные времена. Из Лютеции Юлиан выехал в начале мая, хотя обычно военные действия начинали в июле, когда созревавшие хлеба облегчали снабжение. Он же стремился застать врасплох германские племена, ожидавшие нападения только летом. Из муки, хранившейся на городских складах, испекли нечто наподобие сухарей, и каждый солдат сам нес свой провиант. Кампания велась на Нижней Мозе и Нижнем Рейне, в результате франков из Салиция вынудили сдаться, а племя хамавов было разгромлено. Попутно восстановили три крепости, но затем в армии начались беспорядки из-за нехватки продовольствия, а также недостаточного жалования, ведь даже нормальные выплаты солдаты не получали вовремя. Во-первых, Констанций не присылал в Галлию необходимых сумм, а во-вторых, сам Юлиан проводил, так сказать, политику экономии средств, стараясь защитить интересы населения. Юлиан превратился в объект нападок и оскорблений. Недовольные обзывали его азиатом, гречонком, лжецом и заумным придурком. Казалось, катастрофа неизбежна. Но из-за моря пришло спасение: на Рейне появилась огромная флотилия из шестисот судов, везущих зерно аж из Британии. Оказалось, что, готовясь к военной кампании. Юлиан еще предыдущей осенью выдал соответствующие распоряжения чиновникам в Британии, так как этот остров был в его подчинении как цезаря Запада. Там в течение десяти месяцев построили 400 кораблей и сделали запасы зерна. Положение было спасено. На Рейне недалеко от Мюнстера навели понтонный мост, и уже во второй раз войска под командованием цезаря перешли на другой берег, чтобы опустошать земли алеманнов. Их вожди, сначала Суомар, а затем Хортар, просили о мире. Для начала им пришлось выдать пленников, захваченных в прежние годы. А по распоряжению Юлиана уже давно составлялись списки людей, угнанных в плен, поэтому почти все были в них учтены. Лагерь римлян наводнили толпы несчастных, которым предстояло теперь возвращение на родину. Алеманны доставили также строительные материалы для восстановления римских поселений. Столь же успешным был и поход 359 г. И на этот раз Юлиан вел армию за Рейн, но мост построили гораздо южнее Мюнстера. Войска добрались до обозначенных старинными камнями границ, отделявших римлян от бургундов. В этой кампании покоренные местные вожди также должны были сначала вернуть всех пленных. На зимние квартиры цезарь опять остановился в Лютеции. Ему пришлось заняться делами Британии, чьи земли подвергались нападениям племен пиктов с гор Каледонии. Поначалу Юлиан собирался лично возглавить экспедицию, но счел, что весть об его отъезде может вызвать восстание только что усмиренных франков и алеманнов. Поэтому на остров был отправлен командующий кавалерией Лупицин, занявший недавно место Севера, который в одном из последних походов сломался психически и стал просто-напросто трусить. Впрочем, у цезаря уже был на то время доверенный человек в Британии — некий Алипий — приятель еще со студенческих лет. Юлиан пригласил его в Галлию, а затем выхлопотал для него высокую должность викария, то есть заместителя префекта острова. Уже оттуда Алипий прислал Юлиану подарок, за который тот поблагодарил следующим образом: «Меня как раз оставила болезнь, когда пришел Твой труд по географии. С не меньшим удовлетворением я принял составленную Тобой карту. С точки зрения техники рисунка она выглядит лучше предыдущих, а в придачу Ты украсил ее поэзией в форме ямбов. Это именно такой дар, какой Тебе прилично мне преподнести, а мне приятно принять. Мы рады, что все дела правления ты стремишься вести как энергично, так и милостиво». Карта, о которой здесь речь, наверняка представляла Британию. Зато нам ничего не известно о болезни цезаря, упомянутой также и в письме, отправленном в это же время Прискосу, философу, связанному с Пергамской школой, которому тогда было уже за пятьдесят. «К счастью, оставила меня, благодаря всеведущему Спасителю, тяжелая и опасная болезнь, когда получил я Ваши послания: именно в тот день я впервые принимал ванну. Был уже вечер, когда я начал читать письмо. Трудно выразить, сколько сил оно мне придало, как только я проникся Твоей доброжелательностью, чистой и искренней. Только бы оказаться достойным ее, только бы не опорочить Твоей дружбы!» Наконец пришла радостная весть: Прискос приезжает в Галлию, и Юлиан отвечает: «Я дал Архелаосу письмо к Тебе и разрешение пользоваться государственной почтой — действительное, как Ты просил, на длительный срок. Раз Ты решил исследовать Океан, мы предоставим Тебе, с божьей помощью, все, что только пожелаешь, если не испугаешься зимы и неотесанности галлов. (…) Клянусь Тебе источником всего лучшего, что у меня было, и самим Спасителем, что цель моей жизни — стать хоть в чем-то для Вас полезным. А когда говорю „для Вас“, я имею в виду настоящих философов». Цитированные письма свидетельствуют, что Юлиан мечтал иметь рядом с собой людей умных, культурных И доброжелательных. Они доказывают также, как глубока в нем любовь к старым богам. Кто же такой упомянутый Спаситель, всеведущий бог? Попади письма в чужие руки, эти определения не вызвали бы подозрений, так как могут быть поняты в христианском смысле. На самом же деле они относились к божеству, приверженцем которого Юлиан являлся уже многие годы. Это было Солнце — Гелиос и его воплощение — бог Митра. Но далеко не всех приятных ему людей мог Юлиан держать при себе. Из-за интриг префекта Флоренция и по приказу императора ему пришлось расстаться с Секундом Салюцием, одним из самых близких и преданных ему советников. Правда, Салюция, которому было уже лет 60, прислал Констанций для надзора за Юлианом, но они быстро стали настоящими друзьями. Их объединяла любовь к литературе и философии, стремление защитить бедняков от произвола богачей и чиновников, а главное — верность прежним богам. Юлиан прощался с Салюцием такими словами: «Я чувствую в связи с этим такую же острую боль, как тогда, когда принужден был расстаться с моим первым воспитателем. На меня нахлынули воспоминания. Мы с Тобой действовали согласно, общались друг с другом искренне, разговаривали честно и открыто. Мы участвовали вместе как друзья во всех хороших делах, и одинаковым было наше неприятие и непримиримая позиция по отношению к подлым людям». А вот заключительные слова: «Благодаря Тебе я чувствую себя близким к галлам, в то время как Ты, будучи жителем Галлии, принадлежишь к самым выдающимся эллинам, столько у Тебя достоинств. Особенно украшает Тебя ораторский талант, но присущи Тебе и знания философии, в которой только эллины достигают высот. Ибо ищут они правду путем рассуждений и не позволяют нам верить в невероятные мифы и странные чудеса, что так свойственно варварам». Мы не знаем, когда точно Секунд Салюций покинул Юлиана. Во всяком случае, его уже не было в Лютеции зимой 359/360 гг., когда цезарю пришлось принимать, пожалуй, самое драматическое решение в своей жизни. Именно тогда к Юлиану прибыл трибун Децентий с приказом Констанция: немедленно выделить из рейнской армии сильный корпус, которому весной предстоит отправиться на юго-восток для участия в войне с Персией. У Юлиана отбирали, тем самым, две трети солдат, притом лучших, оставляя для обороны Галлии менее боеспособные отряды. С точки зрения всей империи решение было, конечно, объяснимым, так как война с персами требовала огромных сил, а ситуация на Рейне, благодаря последним успехам, нормализовалась. Однако, было очевидно, что, прознав о передислокации стольких формирований, германцы снова перейдут границу, и некому будет их остановить. Тем не менее цезарь Запада выполнил волю императора. В Лютеции он находился один, так как префект претории, Флоренций, наблюдал за доставкой продовольствия в долине Родана, а начальник кавалерии, Лупицин, отправился в Британию. А тем временем приходилось опасаться, что посланные из Галлии на далекие восточные рубежи солдаты могут взбунтоваться, ведь тысячи людей отрывали от родных мест и семьи. И действительно, во многих лагерях появились листовки следующего содержания: «Гонят нас на край земли, будто преступников, а наши семьи снова будут в услужении у алеманнов!» Чтобы успокоить эти опасения, Юлиан позволил женатым воинам забрать с собой их женщин и детей, используя для этого повозки регулярной государственной почты. Вопреки его советам, уполномоченные Констанция решили отправляемые с Рейна отряды сконцентрировать в Лютеции. В феврале 360 г. туда собрались войска из разных лагерей, причем в один и тот же день. Юлиан приветствовал их речью, встреченной глухим молчанием. Прием для офицеров, устроенный во дворце, также прошел невесело. Поздно вечером толпа солдат неожиданно окружила дворец и провозгласила Юлиана августом. Он сам так позднее описывал это событие: «Я как раз отдыхал в своих комнатах — моя жена еще была жива — на втором этаже в пристройке главного здания; было там окно в стене, я оттуда молился Зевсу, и он повелел мне не противиться воле армии. И все же я не сразу согласился, отказываясь, как мог, и от титула, и от диадемы. Но я один не смог совладать с толпой, а боги только побуждали солдат и осторожно склоняли мой ум к согласию. И стало так, что около третьего часа я надел диадему — не помню, кто мне ее подал — и отправился во дворец, стеная, богам это ведомо, в глубине своего сердца». Гораздо более обширное свидетельство Аммиана Марцеллииа дополняет эту сцену многими подробностями. В частности, историк рассказывает, что, когда Юлиан уступил настояниям солдат, его сначала посадили на щит пехотинца и подняли вверх. Собравшиеся требовали, чтобы он надел диадему, а цезарь отвечал, что у него никогда не было ничего подобного. Тогда раздались предложения взять вместо диадемы колье жены, но Юлиан возражал, уверяя, что не следует брать женских вещей, что было бы плохой приметой. Принялись искать декоративную цепь, которую использовали для украшения на параде лошадей, но Юлиан с возмущением отверг и эту идею. В итоге один офицер снял свой нашейник, называемый torques — знак хорунжего, и смело возложил его на голову цезаря. Таким образом, мы здесь впервые встречаемся с подтвержденным историческим источником церемониалом, который позднее регулярно воспроизводился во время римских и византийских коронаций, а именно: возложением на голову правителя диадемы — прообраза короны, а также подниманием его на солдатском щите по германскому обычаю. Кроме того, это первое и хорошо документированное важное историческое событие, имевшее место в Лютеции, то есть Париже. Город на Сене входит в историю вместе с Юлианом. 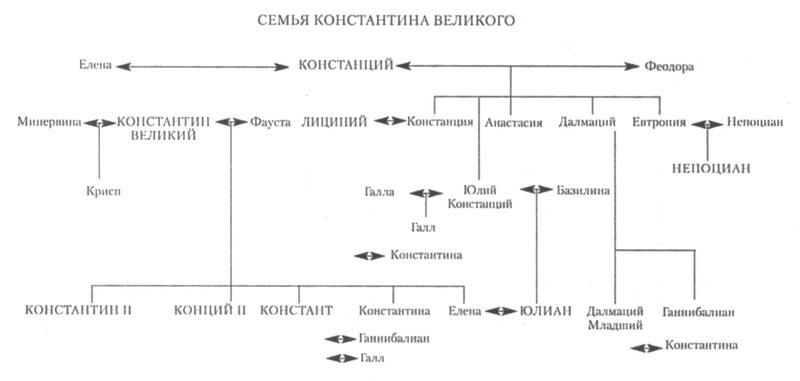 СЕМЬЯ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО Имена ЦЕЗАРЕЙ написаны прописными буквами, стрелки — супружеские или внебрачные связи. ПОД УГРОЗОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ При желании Констанций мог бы с пониманием отнестись ко всему произошедшему и признать за Юлианом титул августа. Однако император, человек подозрительный и гордый, ни с кем не хотел делить высокого звания. Он по-прежнему видел в Юлиане вечного студента и недотепу, чьими услугами пользуются только временно. Ко всему прочему Констанций не терял надежды дождаться сына, как-никак он мужчина в расцвете сил, а Евсевия — молодая женщина. Не помогло и письмо, в котором новый август взывал к примирению и согласию, подробно объясняя, каким образом он был принужден принять титул, и заверяя в своей лояльности. Юлиан писал: «Я буду посылать Тебе определенное число солдат из поселенцев-варваров, рожденных за Рейном или тех, что нам покорились». В то же время он предупреждал, что «жители Галлии, измученные страшными катаклизмами, не в состоянии отправлять своих людей в чужие и дальние края». При этом он ставил определенные условия: «Твоя Милость назначит нам префектов преториум, но наместников провинции и солдат моей личной стражи выберу я сам». На это открытое письмо Констанций не ответил, послов задержали, в конце концов, отправили их ни с чем. В свою очередь его сановник, присланный в Галлию с требованием, чтобы Юлиан пошел на уступки, также ничего не добился. Поскольку переговоры с Констанцием замерли на мертвой точке, Юлиан отправился весной 360 г. в поход против франков. Выиграв кампанию, он вернулся осенью в Виенну на Родане, то есть именно в тот город, куда он прибыл пятью годами ранее как недавно назначенный цезарь, брошенный на «съедение» германцам, наводнившим Галлию. Теперь же он вступил в город как победитель, освободивший многие земли, и август. В Виенне 6 октября Юлиан торжественно праздновал пятую годовщину провозглашения его цезарем, что сопровождалось, разумеется, играми для увеселения народа. Вероятно, именно тогда он впервые выступил официально и публично в качестве августа в великолепной диадеме на голове. В это же время умерла его жена, Елена. Из всего потомства Константина Великого — а в 337 г. оно состояло из трех сыновей и двух дочерей — остался один Констанций, а из всего рода, столь многочисленного двадцать с небольшим лет назад, только он же да Юлиан. За неполные четверть века семья была уничтожена братоубийственными войнами и политическими убийствами; лишь Елена и Константина умерли своей смертью, хотя и преждевременной. Можно ли говорить о родовом проклятии? Язычники именно так дело и объясняли, уверяя, что месть богов настигла потомство и родных правителя, порвавшего с верой отцов. Тело Елены доставили в Рим и похоронили в мавзолее Константины (Констанции) у via Nomentana в тяжелом порфировом саркофаге, похожем на тот, в котором покоились останки ее сестры. И мавзолей, построенный в форме ротонды, и саркофаги сохранились до наших дней. По всей видимости, несколькими месяцами ранее умерла Евсевия, жена Констанция, сделавшая столько добра Юлиану, вступаясь за него в прежние годы в моменты опасности. Ее смерть стала ударом для примирения в империи, поскольку, покуда она была жива, оставалась надежда, что сможет повлиять на мужа и предотвратить вооруженный конфликт. 6 января 361 г. Юлиан участвовал в Виенне в торжественном богослужении по случаю праздника Епифании, то есть Богоявления. В те времена праздник этот отмечали в память о крещении Иисуса, что сохранилось в восточном христианстве; в этот день обычно крестили оглашенных. На Западе же 6 января стал позже праздником в честь Трех Волхвов, то есть — как это толковалось — явления Господа язычникам. Юлиан публично демонстрировал свою приверженность христианству, дабы опровергнуть слухи, будто он отшатнулся от веры. Ведь последователи Христа были тогда столь многочисленны и организованны, что следовало как минимум позаботиться об их нейтралитете ввиду вероятного конфликта. А Констанций тем временем вооружался как мог, везде, куда простиралась его власть; он собирал войска для сражения и с персами, и с «мятежником». Призывались тысячи рекрутов, увеличивалось число кавалерийских частей, сословиям и ремесленникам в каждом поселении определялось, сколько они обязаны поставить одежды, оружия, боевых машин, продовольствия и тяглового скота, а также — разумеется — вводились новые налоги. От поборов и общественных работ император освободил только христианских священников, ибо часто говаривал: «это религия поддерживает наше государство, а не учреждения или физический труд и усилия». Развернул Констанций и широкую дипломатическую акцию, направляя послов в небольшие приграничные государства на Востоке, чтобы склонить их не поддерживать персов. Одновременно он пытался усыпить бдительность Юлиана — против которого вовсю вооружался! — посылая тому примирительные письма; однако упорно продолжал титуловать его цезарем. Обнаружилось также, что Констанций подбивает германцев перейти Рейн, чтобы связать, таким образом, силы противника и не позволить тому предпринять активные действия против императора. Поскольку вождь алеманнов, Вадомар, похоже, вел двойную игру, Юлиан велел его тайно схватить и вывезти в Испанию, а сам перешел Рейн в верхнем течении и опустошил тамошние земли. Сделано это было, чтобы обезопасить свой тыл в преддверии решающей схватки с Констанцием, которая неумолимо приближалась. Юлиан отлично понимал, что у императора военное, моральное и политическое превосходство. Рейнские легионы не могли противостоять объединенным войскам империи. А общественное мнение осуждало самозванца и верило в счастливую звезду Констанция, всегда помогавшую ему во внутренних конфликтах. Останься Юлиан в Галлии и ограничься только обороной, он бы проиграл в ситуации, когда император подошел бы во главе армии, а германцы ударили бы из-за Рейна, — таким образом, повторилась бы история падения Магненция. Единственным шансом на спасение было начать наступление самому. Но ведь войска Юлиана провозгласили его августом как раз потому, что не желали оставлять родину! Разве они пойдут теперь на чужбину, рискуя потерять все в борьбе с гораздо более сильным противником? Солдат обрабатывали разными способами. Доверенные люди расписывали опасность сложившегося положения, растолковывали необходимость застать врага врасплох, сулили огромные награды после победы. Затем сам Юлиан произнес речь, в которой напоминал о своих успехах в борьбе с германцами и то, что титул августа он принял вопреки своей воле, а в заключение сказал, что нынешняя ситуация велит опередить противника и овладеть Италией и Иллириком. Армия ответила дружными возгласами согласия и ударами по щитам. Затем хором была принесена присяга, в которой клялись в верности вождю перед лицом любой опасности. Солдаты сами призывали на себя страшные кары, если не сдержат слова; а произнося эту клятву, приставляли острия мечей к своим шеям. Приказ о начале похода был отдан летом 361 г., в июне или июле. Войска продвигались быстро и проводили много смелых операций. Друг Юлиана ритор Либаний так впоследствии описывал его поход: «Он мчался, будто бурная река, сметающая все на своем пути. Неожиданно занимал мосты. Появлялся перед еще спящим неприятелем. Делал так, что враг смотрел в другую сторону, а он заходил с тыла. Казалось, должен поступить так, а он совершал нечто прямо противоположное». Армию разделили на два корпуса. Один перевалил через Альпы и двигался по долине Мала, второй шел с Верхнего Рейна вдоль подножия Черного Леса (Шварцвальда) к Верхнему Дунаю; этим вторым командовал начальник кавалерии Невитта, а сам Юлиан во главе трех тысяч отборных солдат двигался впереди него. При вступлении в долину Дуная удалось, по счастливой случайности, захватить много лодок в том месте, где река становится судоходной. Юлиан без колебания посадил на них свой отряд и устремился вниз по течению. Он без боя проплывал мимо верных Констанцию городов и пограничных пунктов — их должен был захватить идущий следом корпус, — стараясь поскорее продвинуться как можно дальше, прежде чем враг организует оборону. Дунайской армией командовал тогда верный Констанцию начальник кавалерии Луцилиан, чья штаб-квартира располагалась в Сирмии на Саве. Там его и застал врасплох посланный Юлианом отряд коммандос, как мы сказали бы сейчас. Луцилиан спал, когда его разбудили крики и лязг оружия, а солдаты противника, словно пленника, привели его к Юлиану, перед которым он вынужден был совершить акт адорации. Днем двинулись на сам Сирмий, хотя идея напасть на мощный военный лагерь всего с тремя тысячами солдат могла показаться сумасшедшей. Однако Юлиан верил в свою удачу и надеялся на фактор неожиданности; он был убежден, что неприятель откажется от борьбы. Так и случилось: когда к вечеру он приблизился к предместью Сирмия, мирная толпа приветствовала его цветами, а местный гарнизон не замедлил к ней присоединиться. Это был огромный успех. Ни один придунайский город и никакое воинское формирование уже не пытались сопротивляться. Но Юлиан передохнул здесь только один день. На рассвете следующего войско двинулось дальше на восток, чтобы занять Наисус (Ниш) и Сердику (Софию). Цезарь разместил свои отряды на горных перевалах между Сердикой и Филиппополем и мог теперь чувствовать себя спокойно, так как не опасался неожиданного нападения с востока. Разместив штаб-квартиру в Наисусе, Юлиан занялся лихорадочной административной работой, а также писательством, стремясь привлечь к себе население новоприобретенных земель. Его канцелярия рассылала письма по городам и мало-мальски значимым персонам, в которых разъяснялись причины и обстоятельства предпринятых действий, при этом вся вина, разумеется, возлагалась на Констанция. Последнему припоминали и презрительное отклонение любых попыток к примирению, и участие в преступлениях 337 г., когда под ударами солдатских мечей погибли многие члены рода Константина Великого. Письма эти встречали разный прием, в основном весьма прохладный, так как большинство было все же убеждено, что в конце концов победит Констанций. Во всяком случае, такова была позиция римского Сената. И тем не менее Юлиан позаботился о поставках в столицу зерна, а Риму грозил голод, поскольку администрация Констанция направила флот с египетским зерном в Константинополь. Именно в Наисусе поздней осенью 361 г. Юлиан осмелился наконец открыто заявить о своих религиозных убеждениях. Он так писал об этом к одному из своих друзей: «Богам мы поклоняемся явно, а большинство наших солдат весьма набожны. Жертвоприношения совершаем публично. В благодарность богам мы принесли многочисленные гекатомбы, а они велят нам блюсти невинность и обещают, что щедро наградят наши труды, если только мы не впадем в праздность». Надо сказать, что Юлиан внимательно собирал и соответствующим образом объяснял — для себя, своих людей и политической пропаганды — всевозможные якобы вещие знаки. Можно считать весьма символичным, что истинный характер своей веры он раскрыл в родном городе Константина Великого, который фактически сделал христианство государственной религией. Поэтому нет ничего удивительного, что именно здесь и тогда Юлиан публично атаковал этого императора и своего дядю, умершего без малого четверть века тому назад, называя того разрушителем порядка, поправшим закон и традиции. Но новый август был слишком трезвым политиком, чтобы в сложившейся ситуации посвящать чрезмерное внимание вопросам религии. Каждый день ставил новые проблемы, а он быстро и умело их решал, начав с назначений на ключевые посты в занятых землях доверенных людей. Среди новоназначенных оказался и Аврелий Виктор. Человек этот был родом из бедной деревушки в Северной Африке и собственным трудом и талантом забрался высоко по служебной лестнице. Юлиан встретился с ним в Сирмии и вскоре сделал наместником Нижней Паннонии, территории между Савой и Дравой. Через двадцать лет Виктор стал префектом Рима. Тогда с ним познакомился Аммиан Марцеллин и дал ему лестную характеристику: «Муж — достойный подражания в своей праведности». Сохранился также его небольшой, но весьма ценный труд по истории Рима со времен Августа до Констанция, составленный в виде галереи цезарей. Ставя его на пост наместника, Юлиан давал всем понять, что собирается поддерживать людей образованных, честных и верных религии отцов, невзирая на их происхождение. Интересно также, что даже тогда, в преддверие войны, Юлиан вводил налоговые льготы для населения, а в спорах между городскими общинами и магнатами по вопросам платежей принимал сторону городов, стремясь к справедливому денежному и натуральному обложению. Подобную политику — как мы уже знаем — он проводил еще в Галлии. Тем временем пришли весьма неприятные известия. Гарнизон Сирмия, совсем недавно сложивший оружие и направленный в Галлию, взбунтовался, занял Аквилею и снова перешел на сторону Констанция! Это грозило потерей Италии и прекращением связи с Галлией. Юлиан послал войска под Аквилею, но неоднократные попытки штурма города, недоступного благодаря окружавшим его водным пространствам, ни к чему не привели. Казалось, придется оставить занятые таким смелым походом территории и бесславно вернуться на Рейн и Родан, чтобы защищаться под прикрытием Альп. Это были очень тревожные и тяжелые дни. И тут пришла весть, которой никто не мог ожидать и которая буквально в считанные часы изменила положение не только Юлиана, но и всей империи: цезарь Констанций умер своей смертью 3 ноября на Сицилии! ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНОЙ ГОРОД «Я пишу Тебе это письмо в третьем часу ночи, и у меня нет даже секретаря, так все заняты. Мы живы! Боги избавили нас от необходимости пострадать или совершить нечто такое, чего нельзя было бы уже исправить. Гелиос мне свидетель — а именно его я больше других богов просил о помощи — и царь Зевс, что я никогда не молил о гибели Констанция, а всегда о том, чтобы этого не случилось. Почему же я отправился в поход против него? По прямому приказу самих богов, которые обещали спасение, если я их послушаю. А если бы я ничего не предпринял, случилось бы то, чему лучше никогда не случаться. Впрочем, раз Констанций объявил меня врагом, я хотел его напугать и склонить к согласию». Так писал Юлиан из своего штаба в Наисусе одному из родственников в ноябре 361 г., когда пришло известие о внезапной болезни и смерти Констанция. Радостное восклицание, свидетельствующее об огромном облегчении, «Мы живы!» повторятся и в письме, адресованном Евтерию: «Мы живы, спасенные богами. Принеси им жертвы, и в благодарность не за одного человека, а за сообщество всех эллинов!» Таким образом, в избавлении от кошмара братоубийственной войны Юлиан видел доказательство непосредственного благоволения богов и исполнение некоего предсказания. Сообщение было настолько радостным и неожиданным, что в окружении цезаря поначалу ему не поверили и опасались вражеской дезинформации. А при всем этом Юлиан глубоко переживал смерть ближайшего родственника. Двор надел траур. Либаний пишет со свойственной ему риторикой: «Все императорские дворцы отворили перед ним двери, а он плакал, погруженный в траур. Кровные узы были для него важнее. А посему первый его вопрос касался покойного; он хотел знать, где тело, и отдаются ли ему должные почести». Юлиан не позволял публично порочить память Констанция. «Этот человек был моим другом и родственником. Когда же он вместо дружбы выбрал ненависть, боги решили спор». Цезарь шел во главе своих солдат — а они сражались под его командованием уже полных пять лет — триумфальным маршем через Фракию в Константинополь. Под стенами города его с искренней радостью приветствовало все население, даже женщины и дети. Ведь встречали земляка, вернувшегося в зените славы в город, где он родился, провел детство и юность. Здесь у него были друзья и знакомые, здесь находились могилы его родителей. Константинополь гордился тем, что впервые в истории трон занимает его выходец. Юлиан вступил в родной город 11 декабря 361 г. Несколькими днями позже он встречал в порту тело Констанция. Цезарь был сосредоточен и печален, плакал. Обняв руками гроб, он сопровождал его до церкви Святых Апостолов. Погребение проводили, естественно, по христианскому обряду, церемония продолжалась всю ночь и сопровождалась литийными песнопениями. С согласия Юлиана Сенат причислил покойного к сонму богов, хотя в те времена этот акт имел уже чисто формальное значение признания заслуг умершего. Таким образом, новый властитель сделал красивый жест, которым как бы заявлял, что его предшественник оставил по себе хорошую память в истории империи. И одновременно со свойственной ему энергией новый правитель приступил к реализации программы, означавшей полный разрыв с идеологией прежней власти. Все началось с расправы с людьми из окружения Констанция. И это была не месть, а политическая необходимость. Нужно было убрать явных противников и удовлетворить общественные настроения, решительно требующие наказать виновников злоупотреблений и преступлений. В состав специального трибунала вошли четверо наиболее доверенных представителей Юлиана, а также двое высокопоставленных приближенных покойного императора. Сессии этого трибунала проходили в Халкедоне, на другом берегу Босфора. Тем самым Юлиан хотел показать, что не оказывает ни малейшего давления на судей. А приговоры выносились суровые: конфискации имущества, изгнания, смертные казни, причем больше всех свирепствовали как раз те двое соратников Константина. Одновременно формировалось новое правительство империи. Цезарь поставил своих людей на придворные должности и в наместничества провинций. Он стремился собрать вокруг себя культурную языческую элиту, чтобы с ее помощью вдохнуть новую жизнь в склеротический, коррумпированный административный аппарат. Юлиан ценил образованность и любовь к старой эллинской культуре, и в то же время энергию, гражданскую смелость и организованность. О духе, пронизывающем созданное им сообщество, он говорил так: «Мы живем без придворного лицемерия, которое приводит к тому, что хвалящий ненавидит хвалимого больше, чем своего злейшего врага. Мы же сохраняем необходимую во взаимоотношениях свободу, и даже испытывая друг друга, когда нужно, и упрекая, мы полны дружеской любви. Именно поэтому мы можем работать, отдыхая, и, работая, не уставать понапрасну, а засыпать без страха». Проведена была также безжалостная чистка юлианова двора. Избавились от последних дармоедов на тепленьких, но совершенно бесполезных местах, которые те использовали для зашибания денег, не стесняясь самых наглых злоупотреблений. «Поваров было с тысячу, цирюльников не меньше, а подчаших и того больше. Прислуживающих за столом целый рой, евнухов, как мух весной у пастухов. (…) Выгонял вместе с ними и бесчисленных секретарей. Те выполняли по сути невольничью работу, но полагали при этом, что им подчиняются даже наместники провинции. Их ненасытная жадность распространялась до самых границ, и они выпрашивали у цезаря все, чего только захотели. Старинные города становились жертвами грабежа, а произведения искусства, выдержавшие века, теперь везли морем, чтобы украсить дома парвеню, делая их великолепнее императорских дворцов». По всей вероятности непосредственной причиной кардинальной реформы дворцовой службы стало мелкое забавное происшествие. Когда Юлиан вызвал цирюльника — а именно тогда он начал отращивать бороду, — в покои явился пышно одетый сановник в окружении многочисленных помощников. Цезарь, думая, что произошла ошибка, повторил: «Я звал цирюльника, а не заведующего бухгалтерией». А когда выяснилось, что это-то и есть брадобрей, принялся его выспрашивать, сколько тот зарабатывает. Великолепный парикмахер с достоинством отвечал: «Каждый день я получаю двадцать порций продовольствия и столько же корма для животных, а кроме того, у меня большой годичный заработок и приличные доплаты». С радостью и облегчением народ приветствовал ликвидацию мощной спецслужбы agantes in rebus. У них было широкое и весьма неопределенное поле деятельности: доставляли секретные приказы императора, надзирали за функционированием почты, иногда взыскивали казенные недоимки, вели контроль и слежку. Все это давало превосходные возможности для злоупотреблений. «Никто не был вне досягаемости их стрел. Кто не сделал ничего плохого, но не откупился, погибал по ложному обвинению, негодяю же все сходило с рук, если заплатил. Больше всего они зарабатывали на раскрытии липовых преступлений против императора. Подсовывали также красивых мальчиков нормальным мужчинам и шантажировали, что покроют их позором. Обвиняли в занятии магией людей, как нельзя более далеких от этого». Это слова Либания. Такие шаги нового императора вызвали всеобщее одобрение, так как всем надоели наглые евнухи, разряженные брадобреи, придворные трутни, всемогущие секретари и агенты. Но одновременно цезарь развернул деятельность, которая вызывала реакцию весьма острую и противоречивую. Одни приветствовали ее как долгожданную весну после тяжелой и мрачной зимы, а другие возмущенно называли бредом сумасшедшего. С конца 361 г. начали выходить эдикты, касающиеся новой религиозной политики. Их полные тексты, правда, не сохранились, но главные постановления нам известны хорошо, благодаря многочисленным упоминаниям в современных им источниках. Итак, приказывалось открывать закрытые прежде языческие храмы; возобновлять традиционные верования и праздники; возвращать принадлежащие ранее святилищам здания, литургические предметы и имения, которыми завладели христианские общины или частные лица; восстанавливать места языческих культов, алтари и статуи за счет тех, кто их уничтожал. Основным принципом новой политики была веротерпимость. Все культы и верования, как языческие, так и христианские, объявлялись равными. Язычникам следовало вернуть утраченные права и имущество, а принцип равноправия должен был соблюдаться также внутри христианской церкви, то есть в отношении всех общин, объявленных еретическими и раскольническими. Заявляя во всеуслышание, что надлежит взаимно уважать свою и чужую веру, Юлиан был, конечно, глубоко убежден, что, если дать разным религиям равные шансы, дело прежних богов победит. Однако намерения правителя далеко опережали его время: современники совсем не готовы были понимать, а тем более воплощать в жизнь благородные принципы религиозной терпимости. Да что говорить, разве люди нашей эпохи в этом смысле опережают своих предков из IV столетия? Во всяком случае, эдикты Юлиана с призывами к пониманию и свободному исповеданию разных религиозных культов привели, по сути, только к росту взаимного ожесточения. Это хорошо демонстрирует, пусть и излишне резкая и, несомненно, весьма пристрастная реляция античного христианского историка Феодорета из Кира. «Как только Юлиан обнажил свою безбожность, в городах разгорелась борьба группировок. Те, что служили идолам, набрались смелости. Они открывали святилища, устраивали грязные и достойные забвения мистерии, разжигали огонь на алтарях, оскверняли землю кровью животных, а воздух — дымом и смрадом жертв. Обуянные демонами, носились они как одержимые или бешеные по улицам, хуля и высмеивая христиан и не упуская ни одного ругательства и издевки. Богобоязненные люди не могли снести таких оскорблений и тоже не жалели обвинений, указывая на заблуждения своих противников. Разгневанные сим безбожники, осмелев от данной им властителем свободы, наносили болезненные удары. А проклятый цезарь, чьей заботой должен быть мир среди подданных, наоборот, науськивал группы людей друг на друга и смотрел преспокойно, как наглецы набрасываются на мирных жителей, а гражданские и военные учреждения доверил людям самым жестоким и безбожным. И хотя те открыто не принуждали христиан приносить жертвы, но всячески их притесняли и унижали». Следует, однако, сказать, что Юлиан имел последователей Христа даже в своем ближайшем окружении. Он издал также эдикт, позволявший вернуться всем христианам, которых Констанций II отправил в ссылку в связи с доктринальными и персональными спорами. Ибо новый император полагал, что веротерпимость должна существовать и в самой Церкви. В реальности же это способствовало только обострению борьбы между самими христианами, поскольку изгнанные епископы требовали вернуть им утраченные и уже занятые другими кафедры, а, к примеру, священники-донатисты — здания и богослужебную утварь, присвоенные католиками. А может, цезарь поступал так намеренно, чтобы поссорить христиан и обнажить их внутренние противоречия? В Александрии дело дошло до трагедии. Тамошний епископ Георгий, поставленный Констанцием и ненавидимый как язычниками, так и христианами, был зверски убит 24 декабря 361 г., поскольку распространились слухи, что он намерен снести одно из самых почитаемых местных культовых сооружений. Юлиан немедленно направил александрийцам резкое послание, в котором констатировал, что своим преступлением они оскорбили основателя города, Александра Великого, бога Сараписа и присущее всем понятие человечности. Да, Георгий совершил серьезные провинности: подстрекал Констанция к репрессиям и способствовал введению в город армии, обирал святилища, вывозя оттуда статуи и дары верующих, а недовольство грубо подавлял. Но, убив епископа, горожане осквернили свой город, ибо надлежало предать этого человека в руки правосудия. Существуют законы, которые должны уважать все. Этим выговором императору пришлось и ограничиться, так как не представлялось возможным найти истинных виновников. Ему вспомнился его дед, Юлиан, бывший много лет назад наместником Египта. Во время беспорядков разграбили дом епископа и его библиотеку. Император велел разыскать украденные книги. Он писал: «Одни любят лошадей, другие птиц, третьи разных зверей. Я же с самого детства мечтал иметь книги. Поэтому странно было бы мне взирать равнодушно, как их присваивают себе люди, которым мало золота для удовлетворения своей жажды наживы. А посему окажи мне большую услугу и отыщи для меня все книги Георгия!» Смерть епископа Александрии привела к тому, что в город мог беспрепятственно вернуться и занять свое прежнее место Анастасий, изгнанный Констанцием и скрывавшийся в течение пяти лет. Триумфальный въезд состоялся 21 февраля 362 г. Упомянутый выше эдикт Юлиана являлся юридической основой возвращения опального епископа. И хоть изгнанник раньше называл Георгия ураганом несправедливости, гонителем истинной веры и посланцем злого духа, он, конечно, не мог похвалить убийство, а посему снисходительно упрекнул народ, мол, следовало быть сдержаннее и сохранять достоинство. Книги Георгия, о которых так беспокоился цезарь, несомненно, были переданы библиотеке, основанной им в Константинополе. Юлиан, можно сказать, осыпал город благодеяниями, ибо, по собственному признанию, любил его как родную мать. И хотя император пребывал на Босфоре лишь несколько месяцев, а править ему предстояло всего полтора года, он немало преуспел в обустройстве и украшении Константинополя. Был открыт южный порт, еще десятилетия спустя называемый Юлиановым, построен, ведущий к нему крытый портик, а в другом портике устроена упомянутая ранее библиотека. На одной из площадей цезарь велел установить привезенный из Александрии обелиск. Но самым замечательным даром нового императора Константинополю стало повышение ранга его Сената до уровня римского. И именно с этого момента можно говорить о двух равноправных столицах империи — старой на Тибре и новой на Босфоре. Ибо с этого времени в обеих действовали одинаковые институты, представляющие граждан страны и достойные традиции предков. Нелишне напомнить, что даже основатель Константинополя, сам Константин Великий, сделал город только своей резиденцией, но никак не столицей. Однако Юлиан не ограничился одним соответствующим законом об уравнении в правах, а постоянно демонстрировал свое большое уважение собранию сенаторов. Он регулярно участвовал в заседаниях, причем лично являлся в курию, а не, как большинство его предшественников, вызывал сенаторов во дворец, где те, покорно стоя в присутствии сидевшего владыки, конечно, не совещались, а соглашались с монаршей волей. Юлиан же, напротив, призывал высказываться по любому вопросу. Сенаторам обоих городов, Рима и Константинополя, цезарь предоставил особые привилегии. Заключить под стражу представителя этого органа можно было только после доказательства его вины и исключения из сената, а дома и прислугу сенаторов освободили от разных неприятных повинностей. Помогал Юлиан и другим сословиям, профессиональным и социальным группам. Освобождены были от многих повинностей, в частности, городские лекари; облегчена налоговая система: аннулировано немало просроченных платежей, а долги государству были приравнены к частным. Император отказался от так называемого «коронного золота», то есть традиционной дани, которую города платили правителям как бы добровольно по разным случаям, а особенно в начале царствования, когда делегации приезжали с поздравлениями. Урегулирована была и система получения разрешений пользоваться государственной почтой, которые раньше раздавались направо и налево, что ложилось тяжелым бременем на сельских жителей, так как они обязаны были поставлять повозки и тягловых животных. Таким образом, всего за несколько месяцев правления Юлиан, находясь в Константинополе, сумел сделать очень многое, в основном в области политики внутренней. В границах империи не существовало ни одного очага сопротивления, так как Аквилея, где с поздней осени 361 г. оборонялись верные Констанцию солдаты, сдалась в январе или феврале следующего года. Настало время подумать о внешних врагах. За Нижним Дунаем представляли опасность готы. В окружении цезаря раздавались голоса, что надо бы перейти реку и расправиться с ними раз и навсегда. Юлиан, однако, счел, что этот противник его недостоин. Он мечтал разбить персов, покорить царя царей, отомстить за падение Амиды и других крепостей, понести римских орлов далеко на восток, как это сделал Траян двести пятьдесят лет тому назад. Но чтобы претворить этот план в жизнь, необходимо было покинуть Константинополь и перенести резиденцию ближе к будущему театру военных действий. А потому в мае 362 г. Юлиан простился с родным городом и, не торопясь, через страны Малой Азии направился к Сирии. АНТИОХИЯ По пути в Сирию цезарь сначала посетил Никомедию, все еще лежащую в руинах после ужасного землетрясения почти трехлетней давности. Он помнил этот город времен своего детства и учебы богатым и цветущим, где жило много знакомых и друзей. Юлиан не стеснялся слез, проходя в траурном шествии по узким дорожкам среди развалин. Не пожалел он и пожертвований на помощь населению и восстановление города. Затем император совершил паломничество в святилище древнейшей богини Малой Азии в Песинунте. Называли ее Великой Матерью Богов или Кибелой, и была она богиней плодородия и сил природы, а также хранила от болезней и опасностей войны. 22 марта, то есть в начале календарной весны, там проходили церемонии, во время которых оплакивалась смерть спутника богини, Аттиса, а двумя днями позже радостно встречали добрую весть о его воскресении. Поскольку Аттис одновременно считался воплощением бога Солнца, Юлиан относился к нему с особым почтением и, еще будучи в Константинополе, написал как раз в дни мартовских празднеств теологический трактат в честь обоих божеств, который завершил молитвой: «Пусть для меня будет плодом почитания Тебя правда о моем отношении к богам, совершенство в служении им, честность и успех в любом деянии, какое начинаю я на государственном и военном поприще, а в итоге завершение жизни в спокойствии и уверенности, что путь ведет к Вам». Верховной жрицей богини цезарь назначил Каликсену, но общим положением дел в Песинунте остался недоволен, так как приверженцев богини Кибелы он встретил там совсем немного. Вскоре после его отъезда двое молодых христиан осквернили святилище. Они были пойманы и предстали перед императором, который одного из них, хотя тот вел себя нагло, велел отпустить, вероятно, приняв за помешанного, а второго только высечь, что считалось в те времена отеческим наказанием. В Анкире, нынешней Анкаре, цезарь вершил правосудие, а затем проезжал через Каппадокию, землю, где мальчиком провел несколько лет в имении Мацеллум. Но в это имение император не завернул, вероятно, слишком неприятны были воспоминания. 17 июня 362 г. Юлиан подписал один из важнейших законов, изданных в его правление. «Руководители учебных заведений и учителя должны, прежде всего, отличаться примерным поведением, а также речью. Поскольку я не могу посещать каждый город лично, сим повелеваю, чтобы каждый, желающий учительствовать, не принимал на себя этих обязанностей скоропостижно и необдуманно, а предстал прежде перед членами сословия, и с общего одобрения лучших его представителей был утвержден городским советом. Соответствующее постановление надлежит представить на мое усмотрение». На практике это означало, что каждый преподаватель обязательно утверждался императорской канцелярией. Такая прекрасная и справедливая забота о повышении уровня образования в империи имела, однако, и второе дно. Законодатель заботился, таким образом, о том, чтобы обучением молодежи занимались люди, преданные идеалам старой культуры и верные прежним богам. Во всяком случае, Юлиан первым в истории империи ввел в практику принцип подчинения образования государственной власти. Продолжая свое путешествие, цезарь вступил на земли Киликии. Здесь он встретил приятеля времен учебы в Афинах, Цельса, которого пригласил в свой экипаж и так, к восторгу толпы, следовал далее по берегу моря. Ехали по той самой дороге, где столетия назад маршировала армия Александра Македонского. У сирийской границы императора ожидала делегация жителей Антиохии. Среди них присутствовал и Либаний: «Он чуть было не проехал мимо, не узнав меня, ибо лицо мое изменилось вследствие болезни и течения времени. Однако дядя его сказал, кто я такой. Он тут же ловко повернул коня, взял меня за правую руку и долго не отпускал, очаровательно шутя. Я поддерживал беседу в шутливом тоне». Толпы народа с энтузиазмом приветствовали правителя у городских ворот и на улицах, но когда кортеж уже приближался ко дворцу, с разных сторон вдруг раздались отчаянные стоны и рыдания. Это женщины оплакивали смерть Адониса, спутника богини Астарты, как раз на этот день пришелся ежегодный праздник; а через несколько дней предстояло радоваться его воскресению. В окружении Юлиана этот неожиданный всплеск отчаяния посчитали злым предзнаменованием. Для нас же упоминание о совпадении двух событий является важным хронологическим указателем на присутствие цезаря в Антиохии 16 июля, так как именно в этот день там отмечали смерть Адониса. Антиохийцы и Юлиан были весьма расположены друг к другу, ибо рассчитывали на взаимную пользу. Цезарь надеялся, что в этом большом эллинском городе его планы возрождения старой веры найдут широкую поддержку. Он уже ранее списал городской общине часть долгов по налогам, а жители ожидали от правителя, что тот сможет остановить бешеный рост цен на продовольствие. Причиной же дороговизны были действия еще прежнего императора, Констанция, который для снабжения своих войск опустошил склады восточных провинций, а последний урожай был весьма скромным из-за зимней засухи. Однако, как принято в таких случаях, все были убеждены, что у купцов и крупных землевладельцев закрома полны и они только ждут, когда цены на хлеб еще повысятся. Когда во время гонок на колесницах Юлиан появился в своей ложе, весь ипподром принялся дружно скандировать: «Все полно, все дорого!» На следующий день император призвал местных богатеев и сановников и пытался их убедить, что — это его слова — «лучше отказаться от несправедливого заработка и помочь согражданам». Можно легко догадаться, что эти наивные призывы к благоразумию и ответственности не встретили у собравшихся ни малейшего сочувствия. Работы у Юлиана, как всегда, было много. «В течение того же дня он отвечал многочисленным делегациям, посылал письма в разные города, военачальникам и наместникам, а также друзьям, выслушивал послания, принимал решения по петициям. А говорил он так быстро, что руки секретарей за ним не успевали. Отдыхать могла прислуга, а он переходил от одного занятия к другому. Покончив же с общественными делами, он ел, лишь бы подкрепить силы, и набрасывался на стопки книг, читая громко и без перерыва, словно цикада, покуда вечером его снова не призывали заботы об общем благе. Обед бывал еще более скромным, нежели первый прием пищи, а сон такой, какого и следовало ожидать после столь скудной еды. И снова являлись другие секретари, что проспали день в постели. Ибо помощники должны были сменяться и отдыхать по очереди, а он менял только род занятий». Такова реляция Либания, имевшего возможность вблизи наблюдать юлианов образ жизни в Антиохии. Эти слова подтверждает и Аммиан Марцеллин, также бывший свидетелем пребывания цезаря в столице Сирин: «Не привлекали его никакие соблазнительные удовольствия, которыми так богата здешняя земля, а для якобы отдохновения обратился он к делам судебным, как и иным, трудным и военным. (…) Разрешая спорные проблемы, он, правда, вел себя не всегда верно, расспрашивая стороны об их религиозных убеждениях, но вы не найдете ни одного его приговора, которое противоречило бы истине. Никто не мог его обвинить, что он свернул с прямой дороги справедливости ради религии или чего иного». А значит, Юлиан, так привязанный к своим богам, чувствовал себя прежде всего императором, ответственным за правопорядок и благополучие своих подданных, независимо от их убеждений и верований. Этот факт поражает каждого, кто беспристрастно анализирует деятельность этого правителя. «Подавляющее большинство эдиктов никоим образом, даже косвенно, не связано со сферой религиозных интересов. Они одинаково благодетельны и по отношению к язычникам, и к христианам. И те, и другие в равной мере пользовались улучшенными дорогами, более действенной, нежели прежде, юстицией, более равномерным распределением общественных тягот между разными слоями». Так писал в свое время Станислав Венцковский в своем труде о Юлиане как администраторе и законодателе. А вот мнение Тадеуша Котули из его книги, посвященной Северной Африке времен античности: «Цезарь не был оторванным от жизни мечтателем, как иногда полагают. (…) Как во всей империи, так и в Африке он защищал интересы горожан, заботился об обустройстве городов, условием чего было налаживание все ухудшавшегося состояния городских финансов». Несмотря на, по идее либеральную, справедливую и толерантную религиозную политику, дела в этой области шли весьма неважно и доставляли много проблем как в результате конфликтов между язычниками и христианами, так и из-за внутрихристианских разногласий. Отсюда столь многочисленные призывы к миру и спокойствию в изданных в Антиохии эдиктах, отсюда и злорадное — надо это честно признать — решение, когда в Эдессе дошло до столкновений между двумя христианскими сектами — ариан и так называемых валентинианиев. «Поскольку достойная всяческого восхищения заповедь велит христианам отказываться от земных благ, дабы легче войти в царствие небесное, мы, содействуя их святым, повелеваем изъять все деньги эдесской церкви и раздать их солдатам, а все земельные наделы присоединить к нашим имениям, дабы верующие, живя в нищете, сохраняли спокойствие и не потеряли царствия небесного, на которое так уповают». Поскольку речь шла о сектантах, ортодоксальные общины, по всей видимости, не протестовали, хотя по логике вещей и они могли чувствовать себя в опасности. Не сочувствующий «галилейцам» и идеализирующий прежнюю веру император, тем не менее, хорошо понимал, что христианский клир превосходит языческих жрецов, не имевших никакой организационной структуры и прозябавших в течение полувека в роли полуподпольных предсказателей. А поэтому настоящее возрождение древних культов могло наступить только одновременно с институционной и нравственной реформой, осуществляемой среди как священников, так и жрецов, а за образец следовало брать именно христианство. В рамках реализации задуманного Юлиан создал иерархию в язычестве. Во многих провинциях уже назначены были верховные жрецы, надзиравшие за деятельностью святилищ на подведомственной территории и образом жизни их служителей. Они являлись неким аналогом епископов. В посланиях к этим верховным жрецам император прямо рекомендовал брать пример в некоторых делах с «галилейцев», в частности, проявлять доброжелательность к чужим, заботиться об умерших и погребении, вести себя достойно. Он наказывал языческим жрецам сторониться театров и нечестивых занятий, пьянства в кабаках, планировал создать систему поддержки нуждающихся, что подтверждает даже враждебный императору Григорий из Назианза. «Он намеревался строить приюты для странников и убогих, божьи дома и дома для девиц, и дома раздумий, а также организовывать поддержку бедных, в том числе и в форме писем, которыми мы рекомендуем людей, достойных вспомоществования, и которые сопровождают их из провинции в провинцию». Служители культа, по мнению императора, в повседневной жизни должны были избегать всякого порока, стараться даже пассивно не соприкасаться ни с чем неуместным. В частности, книги для чтения следовало подбирать разумно, исключая слишком нескромных поэтов и делая упор на труды Платона. Аристотеля и стоиков. Надлежало также выучить наизусть старинные гимны во славу богов и молиться им три, ну, минимум, два раза в день. Сам Юлиан являлся в этом отношении отличным примером: совершил паломничество на гору Кассий вблизи Антиохии, неподалеку от устья Оронта, а в августе отправился к святилищу бога Аполлона среди рощ и ручьев в Дафне, почти в предместье сирийской столицы. Правда, цезарь там столкнулся с неприятной неожиданностью — место было заброшено, жертвоприношений практически никто не совершал. А вопрос о жертвенных животных, которых сам Юлиан усердно приносил на алтари богов и настоятельно советовал другим поступать так же, вырос в целую политическую проблему, ведь в городе не хватало хлеба. Правда, поскольку в кормах тоже был недостаток, часть скота и так предстояло забить, а мясо жертв вовсе не пропадало, поскольку на алтарях сжигали только несъедобные части, а остальное раздавалось людям. Но народ все равно был недоволен, так как львиную долю получали приближенные к цезарю солдаты из Галлии. Аммиан Марцеллин с осуждением взирал на этих зажравшихся и вечно пьяных вояк, которых приходилось выносить с бесконечных пирушек и, взвалив на спины горожан, растаскивать по казармам. Христиане раздували эти серьезные и мелкие проблемы, и в городе росло недовольство. Император подвергался все более злым насмешкам. Высмеивался его низкий рост, походка, даже бородка, которую он отпустил, тогда как его предшественники, начиная с Константина Великого, были гладко выбриты. Ставилось Юлиану в вину и увлечение философией, и равнодушие к гонкам, театру, эротике. Но больше всего его обвиняли в том, что он якобы пренебрегает нуждами народа и не пытается наладить снабжение. А цезарь тем временем предпринимал различные шаги для улучшения ситуации. Сам он так вспоминал об этом: «Я установил и довел до сведения населения цену на каждый продукт. Поскольку у крупных землевладельцев было предостаточно всего — вина, оливкового масла и всяких товаров, — а зерна, действительно, не хватало, так как по причине засухи урожай был плохим, я послал в окрестные города и привез оттуда 400 000 мер. Когда они закончились, я доставил сначала 15 000, потом 7 000, а недавно 10 000 так называемых модиев из моих частных имений. Я также передал городу пшеницу из Египта, назначив такую цену за 15 мер, какую до того платили за 10. А этим летом за 10 мер давали золотую монету, а значит, следовало ожидать, что зимой за эти деньги удастся получить разве что 5 мер, и то с трудом. А чем в это время занимались ваши богачи? Пшеницу, которую прятали по деревням, тайком продавали дороже!» Но, несмотря на все усилия, радикального улучшения добиться не удалось, и напряжение в городе росло. А в это время цезарь позволил себе прямо-таки провокационные действия по отношению к христианам: велел эксгумировать тела мученика Вавилы и его товарищей, которые приняли смерть в гонениях 250 г. и были погребены в Дафне рядом с так называемым ключом Касталии и храмом Аполлона. Распорядился он об этом из-за жалоб язычников, которые утверждали, что, как только там были похоронены мученики, оракул Аполлона замолк. Торжественное перезахоронение состоялось в октябре. Тяжелый каменный саркофаг установили на дрогах, которые тянули люди, а толпы верующих, сопровождавших похоронную процессию, всю дорогу от Дафне до антиохийского кладбища пели псалмы царя Давида, повторяя после каждой строфы: «Пусть устыдятся те, что служат идолам». Ночью 22 октября сгорел храм в Дафне. Огонь уничтожил деревянные балки перекрытий, выжег перегородки, расплавил медь и бронзу. Остались только голые и закопченные каменные стены да несколько колонн. Навсегда пропали бесценные произведения искусства, собранные в течение веков как дары и вклады в храм. Огромная статуя Аполлона, вырезанная из дерева и покрытая золотом и слоновой костью, превратилась в горстку пепла. Следствие начали немедленно, но, что стало причиной несчастья, установить так и не удалось. Многие считали — причем не только при дворе, — что храм подожгли христиане, мстя за поругание реликвий Вавилы. С этого момента политика Юлиана в отношении новой религии ужесточилась. Император приказал закрыть главную церковь в Антиохии, изгнал Анастасия, которого уже ранее выдворил из Александрии, из пределов Египта вообще. Избавился цезарь от всех, или почти всех, христиан в своем окружении, а особенно из отрядов личной стражи. Он также изменил военные знаки и знамена, собственноручно убирая с них символы новой веры. Жестко принялись вводить недавнее положение об образовании, а сам император в разосланном циркуляре подчеркнул, что совершенно неуместно, если прославляющую богов прежнюю литературу будут комментировать люди, в этих богов не верящие; но при этом оговорился, что христианская молодежь может учиться свободно, школы для нее открыты. Таким образом, хотя в теории по-прежнему действовал принцип религиозной терпимости, на практике в империи началась новая волна преследований, правда, бескровных, но весьма неприятных. В декабре пришло известие о землетрясении, которое опять затронуло Никомедию и Никею в Азии, а также Фракию в Европе. Поползли слухи, что будут и новые, еще более разрушительные толчки, если не умилостивить бога. Христиане, понятно, думали о своем Боге, а язычники имели в виду Посейдона. А тем временем в Сирии опять было мало зимних дождей, пересохли источники, ручьи и колодцы. Все это истолковывалось как гнев небес. Неожиданно в середине декабря прошли мощные ливни. Юлиан лично совершил благодарственное жертвоприношение, а затем отправился в дворцовый сад и терпеливо простоял под проливным дождем до позднего вечера. В результате веселые декабрьские праздники, называемые римлянами Сатурналиями, а греками Крониями, прошли в более спокойной атмосфере. Юлиан эти дни отдыха использовал для литературного творчества. Как раз тогда он написал историческую сатиру под заглавием «Пир», известную также как «Кесари», ибо в ней поочередно появляются и характеризуются, в основном язвительно, властители Рима. Весьма интересное произведение, в котором римский император представляет и оценивает предшественников. Эта вещь Юлиана сохранилась, а вот написанный в то же время большой трактат против христиан пропал. Его содержание нам частично известно благодаря цитатам из позднейших полемик. Так завершился 362 г., вторую половину которого император провел в Антиохии. ПОХОД Цезарь покидал Антиохию ясным днем 5 марта 363 г. Провожала его толпа, из которой время от времени раздавались восклицания с просьбами о прощении. Но император был обижен на горожан и произнес резко и громко: «Я вас никогда не увижу!» Для себя он решил, что по завершении военной кампании будет зимовать в Киликии. Армия шла на Персию. С самого начала своего правления Юлиан не скрывал, что хочет этой войны, чтобы отомстить за прежние поражения, хотя персы последнее время вели себя спокойно и даже предпринимали усилия решить дело путем переговоров. А вот цезарь считал для себя позором договариваться, когда города в римских провинциях еще лежат в руинах. Эти военные планы вызывали противодействие даже в окружении императора, где подчеркивалось, что война ляжет непомерной тяжестью на государство, ослабленное столькими потрясениями. Население опасалось огромных налогов и прочих тягот, связанных с вооружением и проходом войск, солдаты вовсе не горели желанием встретиться с грозным противником. Люди суеверные шептались, что множатся дурные предзнаменования. Юлиан же оставался невозмутим и глух ко всяким предостережениям. Двигались по территории Сирии. Через пять дней прибыли в город Иераполис, крупный религиозный центр, где почитали богиню Атаргатис. Туда стекались пилигримы из разных восточных земель, чтобы помолиться у подножия чудотворной статуи и увидеть священных рыб в ближайшем озерке. Сейчас на этом месте развалины, а в озерце плавают только лягушки. Из Иераполиса Юлиан послал Либанию письмо, где сообщал о своих трудах: «Я отправил послов к сарацинам, напоминая им, чтобы явились, если хотят. Разосланы также многочисленные секреты, должные наблюдать, чтобы никто тайком не перешел к неприятелю и не сообщил, что мы уже выступили в поход. Рассудил я одно солдатское дело, весьма милостиво и справедливо, как мне кажется. Сконцентрировав войска, я собрал много мулов и лошадей. Речные суда полны пшеницы, а также сухарей и уксуса. А сколько писем пришлось подписать и документов!» Переправившись через Евфрат, Юлиан со своей армией оказался в римской провинции Осроэна. По просьбе жителей цезарь сначала посетил Эдессу, а приблизительно 20 марта остановился в Каррах, Carrhae. Там прошел смотр армии, насчитывающей 65 000 пехоты и кавалерии. Из этого числа выделили двадцатитысячный корпус, который под командованием Прокопия и Себастьяна должен был контролировать северный фланг, а затем перейти Тигр, в то время как сам цезарь с главными силами вел бы военные действия на юге, на Нижнем Евфрате. Войска двигались вниз по течению вдоль берега реки. Вожди местных сарацинских, то есть бедуинских, племен воздали почести императору и поднесли дары. Мощный флот — более 1 000 судов разного назначения — вез запасы продовольствия, военные машины, понтонные мосты; эти плавучие склады решали все проблемы, которые могли возникнуть во время марша по бедным, а местами просто пустынным, землям. 1 апреля увидели башни и стены римской крепости Киркезий, построенной несколько десятилетий назад по приказу императора Диоклетиана там, где в Евфрат впадает река Аборас (современное название — Хабур). Гарнизон крепости насчитывал 6 000 человек, а на восток от нее, за Аборасом, лежали ничейные земли, дикая степь. Эту реку перешли по понтонному мосту 4 апреля, и только теперь император обратился к солдатам с речью. Длинная колонна войск растянулась почти на 10 римских миль, а корабли плыли параллельно ей. В пустынной местности за Киркезием уже издалека был заметен высокий курган, насыпанный там, где в 244 г. погиб или был убит цезарь Гордиан III. Юлиан совершил жертвоприношение теням своего предшественника. Дальше к югу, но уже на другом берегу реки, торчали развалины старинной римской крепости Дура-Европос, уже лет сто как заброшенной. В этих краях жили только дикие звери. Разведчики из кавалерийского авангарда добыли огромного льва, а суда натыкались у берегов на мирно пасущиеся стада газелей. Несколько дней спустя удалось склонить к капитуляции гарнизон и население персидской крепости на речном острове Аната. Позже горожан переселили в сирийский город Халкис. Среди них оказался почти столетний старец, окруженный внуками и правнуками. Это был солдат-римлянин, попавший в персидский плен еще при императоре Галерии и осевший в этих краях. Он принимал активнейшее участие в переговорах, убеждая гарнизон крепости Аната сдаться, ибо свято верил и всегда повторял, что упокоится в римской земле прежде, чем ему исполнится сто лет. Наконец вступили на богатые и плодородные земли. Апрель здесь был месяцем первого урожая, поэтому недостатка в продовольствии не ощущалось. По приказу императора все вокруг подвергалось разграблению и уничтожению: поджигались поля созревающего хлеба, выкорчевывались виноградники, вырубались финиковые пальмы. Население разбегалось, войска противника не встречались. На штурм укрепленных островов не отвлекались, зато опустевшие прибрежные поселения сжигали дотла. Однако уже вскоре на изрезанной глубокими каналами местности показались первые отряды персов, которые пытались защищать переправы, стреляя из луков и пращ. Первый крупный город, который предстояло штурмовать, назывался Пирисабора. Защищен он был каналами, рвами, двойными стенами из обожженного кирпича, скрепленного асфальтом. После целых суток работы осадные машины разрушили часть стен, поэтому персы оставили город и перебрались в укрепленный замок. В течение двух дней они отражали непрерывные атаки — в одной из них цезарь участвовал лично — и сдались только пораженные видом мощнейшей осадной башни. Всем позволили беспрепятственно выйти из города, захвачены были огромные склады оружия и провианта, а крепость сожгли. Юлиан обещал каждому солдату по 100 серебряных монет, что те сочли слишком скромной наградой. Тогда император выступил на митинге. «Вы должны наконец понять, что римское государство, некогда безмерно богатое, теперь стало очень бедным. Сделали это те, что ввели в обычай золотом покупать у варваров мир, лишь бы сохранить свои имения. Казна оказалась разграблена, города разорены, провинции опустошены. У меня самого нет ни достаточного имущества, ни семьи, хоть происхожу я из прославленного рода. Есть у меня только сердце, свободное от страха. И не стыдно будет императору, который высшим благом почитает закалять свой дух, признаться в честной бедности. Я выполню, как это пристало правителю, свои обязанности до конца и умру стоя, ибо презираю жизнь, которую может у меня отнять любая горячка». Эти и им подобные слова произвели должный эффект. Раздался мерный лязг оружия, означавший одобрение и поддержку императора. А надо сказать, что Юлиан, столь снисходительный и человечный, железной рукой поддерживал в походе дисциплину, что доказал в тот же день, когда персы, неожиданно напав на три отряда конных разведчиков, убили нескольких римлян, а остальных обратили в бегство, захватив также штандарт одного из отрядов. Цезарь немедленно уволил двух трибунов, как неспособных и трусливых, а из солдат выбрал десятерых, которых показательно казнили. Когда армия продвигалась по орошаемым каналами равнинам, персы открыли шлюзы и устроили наводнение. Пришлось в разных местах устраивать гати из стволов финиковых пальм, рощи которых росли вокруг. Цезарь делил со своей армией все трудности и брел пешком по колено в грязи. 13 мая после тяжелой и многодневной осады взяли город Майозамальха, сделав подкоп под одну из башен. Большинство жителей погибло, так как многие в панике бросались с высоких городских стен, что как минимум грозило тяжкими увечьями. Город сожгли и сравняли с землей. От перебежчика узнали, что в окрестных пещерах укрываются персы, собирающиеся напасть на римский арьергард. У входов в пещеры развели огонь, а дым и жар заставили прятавшихся прорываться сквозь пламя, за которым их ждали римские мечи. На дальнейшем пути, затрудненном только многочисленными каналами, в плодородном краю встретился царский дворец, возведенный в римском стиле с огромным парком, полным самых разнообразных животных. Греки, коверкая персидское слово, называли такие парки paradejsos, откуда пошло латинское название paradisus, а уже от него — производные во многих европейских языках для обозначения рая. Овладев очередным замком — цезарь только по чистой случайности избежал там смерти, его закрыл собой оруженосец, — направились к каналу, соединявшемуся с Тигром. Правда, персы спустили воду, но римлянам удалось его снова наполнить, и корабли, сопровождавшие армию, смогли один за другим пройти в эту большую реку. Привал был устроен в одном из дворцов персидского царя среди виноградников и кипарисовых рощ, а на другом, высоком берегу Тигра, укрепились персидские войска. Ночью римляне с помощью своих кораблей все же смогли высадить там часть армии и устроить плацдарм, командование которым Юлиан принял на себя. Утром римлян атаковала тяжелая кавалерия персов при поддержке пехоты с длинными выгнутыми щитами из лозы и грубой кожи; а за ними двигались боевые слоны. Армии сошлись, поднялся страшный крик и огромные клубы пыли. Никто не мог видеть всей битвы, каждый сражался за себя. Персам не удалось сохранить строй, и они все быстрее начали отступать к стенам столицы — Ктесифону. Смертельно усталые от жары и многочасового боя легионеры, может быть, и ворвались бы в город, но их удержало от этого предусмотрительное командование. Войска, упоенные победой и добычей, отдыхали несколько дней, а в окружении императора раздумывали, осаждать ли Ктесифон. В итоге победило мнение, что это было бы слишком рискованно. Решили двинуться в верховья Тигра, чтобы разорить тамошние земли, еще не тронутые войной, и расправиться с главными силами врага. Прибыл персидский посол, но его отправили ни с чем. Поскольку корабли не могли идти вверх по реке, против течения, а вернуться каналами назад в Евфрат тоже не представлялось возможным, почти все суда сожгли, оставив только несколько. Их разобрали на части и погрузили на телеги, чтобы использовать в дальнейшем для постройки мостов при переправах. Двинулись в середине июня. Солдаты имели при себе провианта только до римской границы. Уже в первый день на горизонте показались клубы дыма и огня, а разведчики доложили, что враг поджигает луга и засеянные поля. Так продолжалось всю дорогу, и уже скоро стало не хватать фуража. Персы и их союзники-кочевники постоянно беспокоили римлян, измученных жарой, недосыпом и голодом. Юлиан делил со своими людьми все превратности похода, питался хуже рядового, не досыпал и постоянно объезжал растянувшуюся на марше колонну. В ночь с 25 на 26 июня император — как сообщает Аммиан Марцеллин — ненадолго прилег, чтобы отдохнуть, но спал беспокойно, затем проснулся, что-то писал, как Юлий Цезарь, развивая мысль некоего философа. Вероятно, тогда ему и было видение, как он признался потом приближенным. Он пытался умилостивить богов жертвами, но в этот самый момент как бы горящий факел, подобный падающей звезде, разрезал небосклон и погас. Лагерь свернули на рассвете. Юлиан поехал в дозор. На нем не было доспехов, он хотел только сориентироваться в ситуации. В эту минуту ему доложили, что враг напал сзади, цезарь повернул и помчался к арьергарду, схватив только щит. Но тут поступило новое сообщение о столкновении передовых отрядов, император кинулся туда, но попал в самую гущу битвы в середине римской колонны, где атаковала тяжелая персидская кавалерия и слоны. В горячке боя Юлиан оказался в первых рядах сражавшихся, воодушевляя криками своих воинов и призывая их дать отпор врагу, который уже начал отступать. Вдруг кавалерийское копье — неизвестно откуда брошенное, говорит Аммиан Марцеллин, — задев кожу руки и пробив ребра, вонзилось глубоко в печень. Раненый пытался вырвать его правой рукой, но почувствовал, как острие режет ему пальцы, и рухнул с коня на землю. Императора тут же перенесли в шатер и попытались спасти. Как только миновали первая боль и страх, Юлиан потребовал, преодолевая смерть силой духа, оружие и коня, так как хотел еще раз показаться сражавшимся. Но тело уже не слушалось его воли, потеря крови была огромна. А битва между тем продолжалась. Солдаты, увидев падающего с коня императора сражались с еще большим ожесточением, выражая ритмичными ударами копий о щиты свое горе и желание отомстить за его ранение; они еще не знали, что оно смертельное. Бились римляне яростно, невзирая на закрывшую поля боя пыль, забивавшую глаза и рот, и страшную жару. Только ночь остановила сражение. Погибло пятьдесят персидских командиров и сановников, но и с римской стороны были тяжелые потерн. На правом фланге пал начальник личной охраны, друг Юлиана, Анатолий. Император умирал в сознании. Он благодарил божество, что расстается с жизнью не как жертва убийства из-за угла, не после долгой и мучительной болезни и не приговоренный к казни, а заслужил смерть на взлете, в расцвете своего поприща. Цезарь не назначил преемника, объяснив это так: «Мне не хотелось бы по незнанию обойти кого-нибудь достойного. А также я не хочу называть, кого считаю подходящим, дабы не навлекать на него опасность, будь он избран. Как добрый сын Рима, я желаю ему иметь после меня хорошего правителя». Юлиан раздал близким свое имущество, спросил про Анатолия. Кто-то ответил, что он уже счастлив. Император понял и вздохнул. Находящиеся в шатре плакали. Он упрекнул их, заметив, что негоже оплакивать императора, уже идущего к небу и звездам. Все замолчали, а он еще беседовал с Максимом и Прискосом о величии духа. Рана в пробитом боку открывалась все шире, дыхание становилось все тяжелее. Уже поздней ночью умирающий попросил холодной воды, выпил и вскоре спокойно скончался. О событиях 26 июня 363 г. мы рассказали со слов Аммиана Марцеллина, так как именно его версия представляется наиболее полной и достоверной. Но и Аммиан не знал — или не желал дознаваться, — чья же рука метнула то злополучное копье. Историк только сдержанно отмечает, не исключая возможности, что это неизвестно. А вот Либаний в панегирике в честь умершего говорит ясно: «Надо искать убийцу среди нас самих. Люди, которым мешала его жизнь, не жили в согласии с законом. Они давно уже замышляли преступление и совершили его, когда выдался случай». Поразительно, что христиане вовсе не открещивались от подозрений, что ненавистный им император погиб от руки приверженца их религии. Более того, чтобы подчеркнуть свой триумф, они сочинили — правда, уже в пятом веке, — что умирающий якобы произнес слова: «Ты победил, галилеянин!» Можно подумать, что такая победа имеет хоть какую-то моральную ценность… Кто бы ни убил Юлиана, цезарь расставался с жизнью непобежденным и до последнего вздоха верным своим богам и своим обязанностям. И умер он, как пристало мужчине и римскому императору. Тело его похоронили в величественной усыпальнице в Киликии, недалеко от Тарса. От этой постройки не осталось и следа, но память о выдающемся правителе и благородном человеке жива в веках. Сколько ему посвящено научных работ, романов и поэтических произведений! Очарование этой личности действует даже на холодных историков, заставляя их выносить оценочные и весьма эмоциональные суждения. Эрнст Штайн, замечательный знаток эпохи, говорит: «Несмотря на свои ошибки, Юлиан был одним из благороднейших и талантливейших людей в истории человечества». Ему вторит Андре Пиганьоль: «Истинное величие Юлиана нравственного порядка. Благородство, и даже само беспокойство его характера, критика, которую он обращает на себя, его постоянный диалог с богами, вызывают уважение. Он скорее, чем большинство современных ему теологов, заслуживает называться святым». Христиане же презрительно прозвали его Апостат, то есть Отступник, Отщепенец. Так ли это на самом деле? Лучше и содержательнее всех отвечает на это Антони Слонимски, вложив в уста умирающего цезаря такие слова: «Кто здесь осмелится меня звать отщепенцем? Да, Юлиан до конца был верен религии, называемой культура. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
