|
||||
|
Глава 7 ТОМАС ПЕЙКОК ИЗ КОГСХОЛЛА. Эссекский суконщик в эпоху Генриха VII (Томас Делони)То добрый был суконщик, знай. Великое и благородное дело изготовления сукна оставило множество следов в жизни Англии, в ее архитектуре, литературе и общественном обустройстве. Оно украсило наши сельские пейзажи величественными, устремленным ввысь храмами и изящными домами, сложенными из дубовых брусьев. Оно наполнило нашу народную поэзию преданиями о героях Англии, в которых ткачи Томас из Ридинга и Джек из Ньюбери мирно уживаются с братом Беконом и Робин Гудом. Оно наполнило наши графства помещиками, ибо, как заметил Дефо в начале XVIII века, «предки многих крупных семей, которые теперь считаются в западных графствах дворянами, вышли из купцов и были вознесены наверх поистине благородным делом — производством мануфактуры». Оно подарило нам множество распространенных фамилий — Вивер, Веббер, Вебб, Шерман, Фуллер, Уолкер, Дайер, а всякую женщину, оставшуюся старой девой, наградило кличкой «спинстер» (пряха). И с тех пор, как торговля готовыми тканями потеснила торговлю сырой шерстью в качестве главной статьи английского экспорта, и до той поры, как шерстяные ткани, в свою очередь, были вытеснены железом и хлопком, производство тканей из шерсти являлось основой английского коммерческого процветания. «Среди всех других ремесел, — пишет старина Делони, — оно было самым главным, ибо это был товар, который прославил нашу страну во всем мире». Уже к концу XIV века английские производители высококачественного сукна стали составлять конкуренцию Нидерландам, о чем свидетельствует Чосер в рассказе о Батской Ткачихе: В тканье была большая мастерица, А к концу XVI века английская мануфактура одержала окончательную победу над голландской. С развитием текстильной промышленности происходили изменения и в ее организации. Работников этой отрасли всегда было очень трудно объединить в гильдии, поскольку изготовление сукна состоит из целого ряда отдельных процессов. Подготовительный этап — чесание шерсти и ее прядение — всегда относился к домашнему промыслу. Эти операции выполнялись женщинами и детьми на дому, но ткачи, которые покупали у них пряжу, имели свою гильдию. В гильдию были объединены и сукновалы, которые валяли шерсть, и обрезальщики ворса, и красильщики, которые окрашивали ткань. Но никто из них не мог продавать готовое сукно. В группе взаимозависимых ремесел, каждое из которых имело свою гильдию, мы иногда встречаем ткачей, которые нанимали сукновалов, и сукновалов, нанимавших ткачей. Более того, поскольку ткачество — гораздо более быстрый процесс, чем прядение, ткач часто сидел без работы и с трудом мог набрать столько пряжи, чтобы его станок все время работал. По мере того как текстильный рынок все более расширялся и не ограничивался теперь только тем городом, где проживал ткач, возникла потребность в посредниках, которые занимались бы продажей готового сукна. Так постепенно появился класс людей, которые закупали в больших количествах шерсть и продавали ее ткачам. Позже, в ходе естественного развития процесса, они уже не просто продавали сырье, а поставляли его ткачам, сукновалам и обрезальщикам ворса, которые, после окончания работы, отдавали им готовое сукно для продажи. Эти люди быстро богатели, накапливая капитал, который позволял им нанимать большое число рабочих. Вскоре они начали организовывать работу всех тех, кто выполнял отдельные операции по производству сукна. Их слуги доставляли сырую шерсть в дома, где женщины чесали и пряли ее, затем относили пряжу красильщикам, ткачам, сукновалам и обрезальщикам ворса, а готовую ткань передавали хозяину, которого стали называть суконщиком. Тот, в свою очередь, передавал ее посреднику, которого называли торговцем мануфактурой. Богатство и влияние суконщиков быстро росли, и в некоторых районах Англии они стали основой среднего класса. Они предпочитали организовывать мануфактуры в деревнях и селах, а не в старых корпоративных городах, что помогало им обойти ограничения, налагаемые гильдейскими уставами, и текстильное производство постепенно почти полностью переместилось из городов в сельскую местность. В западной части Англии (но не в Йоркшире) система раздачи работы суконщиками просуществовала до того самого момента, когда Промышленная революция перенесла производство из домов на фабрики, а из южных районов страны — в северные. И тогда многолюдные когда-то селения опустели, и теперь нам приходится по остовам построек, разбросанным свидетельствам и старым названиям восстанавливать когда-то знаменитые на всю округу имена суконщиков Восточной Англии, снабжавших сырьем целый рой рабочих, которые трудились от зари до зари. Таким известнейшим человеком был когда-то Томас Пейкок, суконщик из Когсхолла в Эссексе, проживший долгую жизнь и умерший в почете в 1518 году. Его семья родом из Клера в Саффолке, но где-то в середине XV века одна из ее ветвей переселилась в Когсхолл, расположенный неподалеку. Его дед и отец, по-видимому, были мясниками, которые выращивали свой собственный скот для забоя, но он, его брат и их потомки занялись «благородным делом» производства сукна, что наложило неизгладимый отпечаток на городок, где они жили. Когсхолл расположен в крупном текстильном районе, графстве Эссекс, о котором Фуллер писал: «Это графство можно охарактеризовать теми же словами, что и Бешебу: „Она протягивает свою руку к веретену и крепко держит прялку“… Здесь надо молиться, чтобы плуг врезался в землю, а колесо крутилось, поскольку одно кормит, а другое одевает, и тогда, с Божьей помощью, в нашей стране никогда не будет голода». По всему Эссексу разбросаны города и деревни, известные тем, что в них производят сукно, — Когсхолл и Брейнтри, Бокинг и Холстед, Шолфорд и Дедэм и конечно же Колчестер, крупный центр торговли тканями. В деревнях процветало текстильное производство, и не было, пожалуй, ни одного дома, где не крутилось бы колесо прялки, и ни одной улицы, где не было бы ткацких мастерских или кухонь, где не стояли бы вдоль стен грубо сколоченные ткацкие станки, на которых работали жители этих домов. Не проходило недели, чтобы на улице не раздался цокот копыт вьючных лошадей, на которых привозили новые партии шерсти и увозили суконщикам Колчестера и окружающих его сел готовые изделия. В течение всего XV века Когсхолл был крупным текстильным центром, уступая первенство лишь Колчестеру и Садбери, и до сих пор обе гостиницы этого городка сохранили свои старинные названия «Мешок с шерстью» и «Руно». Нам придется, как я уже говорила, воссоздавать портрет Томаса Пейкока и его коллег по разбросанным следам, но, к счастью, эти следы встречаются во многих английских селениях, а в Когсхолле они «лежат» прямо на виду. Образ суконщика можно воскресить по трем предметам: его дому, стоящему на городской улице, фамильному надгробию в приделе местной церкви и его завещанию, которое хранится в Сомерсет-Хаус. Дом, надгробие и завещание — не слишком много, но тем не менее эти три предмета способны рассказать нам обо всей его жизни. Большая ошибка думать, что историю можно восстановить только по письменным источникам. Нет, ее следы оставлены повсюду — это различные сооружения и церкви, дома и мосты. Древние амфитеатры способны рассказать тем, кто умеет видеть, свою историю столь же подробно, как и печатные издания тем, кто умеет читать. Руины римской виллы, в течение нескольких столетий скрытые от нас слоями покрывавшей их земли, которую топтала нога ничего не подозревавшего пахаря, — эти руины с их обширными помещениями, с их полами, богато украшенными мозаикой, с их сложной системой отопления и разбитыми вазами лучше любого учебника помогут нам понять мощь Римской империи, граждане которой сумели создать для себя такие уютные жилища на туманном острове, волею судьбы заброшенном на самый край света. Норманнский замок с его рвами и подъемным мостом, воротами, внутренним двором и донжоном, со щелями для лучников вместо окон говорит нам о тяготах жизни в XII веке красноречивее всяких хроник. Богатые люди во времена римского владычества жили в гораздо лучших условиях. Дом помещика в усадьбе XIV века с его двором, часовней, большим залом и голубятней свидетельствует, что снова наступили мирные времена, когда жизнь тысяч мелких хозяев вращалась вокруг сеньора, а основная масса населения Англии совсем не была затронута Столетней войной, которая оставила такой глубокий шрам на лице прекрасной Франции. В XV веке состоятельные люди в городах и деревнях Англии начали сооружать высокие, богато украшенные дома. Фасады этих домов выходили на улицу, а сзади располагались сады. Эти здания, украшенные резными балками, большими каминами, которые создавали в доме уют, ознаменовали собой появление нового класса — среднего класса, располагавшегося между господами и крестьянами и жившего так, как ему захочется. Время великой Елизаветы отражено в прекрасных домах этой эпохи с их широкими крыльями и большими комнатами, с их высокими трубами и стеклянными окнами, выходившими на обширные парки и леса, а не на замкнутые внутренние дворы. Для сравнения войдите в дом, построенный или переоборудованный в XVIII веке, — увидев чипендейловские стулья и покрытые лаком столы, китайские обои с пагодами и мандаринами, вы сразу же вспомните, что это было время набобов, эпоха, во время которой Компания Джона (так иронично называли Ост-Индскую компанию) познакомила англичан с изделиями стран Дальнего Востока, эпоха, когда в моду вошел чай, вытеснивший из светских гостиных кофе, когда Горацио Уолпол коллекционировал фарфор, Оливер Голдсмит создал в своей книге «Гражданин мира» идеализированную картину Китая, а доктор Сэмюэль Джонсон получил прозвище «Великий хан английской литературы». А теперь сравните эту картину с другой — длинный ряд кирпичных домов, которых в этом ряду целая сотня, и каждый как две капли воды похож на предыдущий, вилла в новомодном вкусе — одна большая крыша, и почти никаких окон, фальшивое бутылочное стекло вместо оконного, и вы узнаете архитектуру начала XX века. И вправду, вся социальная и, в значительной степени, политическая история Англии может быть воссоздана по одной только архитектуре, поэтому я не прошу прощения за то, что называю дом Томаса Пейкока первоклассным историческим источником. Почти таким же ценным, только менее интересным документом являются монументальные надгробия, которые сохранились на большей части страны и которых особенно много в Восточной Англии, в шести графствах, окружающих Лондон, и в долине Темзы. Их разнообразие впечатляет — здесь и надгробия священников в ризах, докторов права и богословия и магистров гуманитарных наук в академических одеяниях, а также нескольких аббатов и аббатис. Это и надгробия рыцарей в доспехах, дам с маленькими собачками у их ног и в платьях, по которым можно проследить всю историю моды и представить себе, как выглядели верхние юбки, юбки с фижмами, воротники с рюшами, мантильи и головные уборы, соответствовавшие каждому ее периоду. Надгробия, как и дома, говорят нам о том, что средний класс в Англии процветал, ибо в XIV веке, когда купцы начали строить для себя роскошные дома, они также стали устанавливать на могилах представителей своего класса великолепные надгробия. Самыми лучшими, вероятно, являются могильные плиты торговцев шерстью, ноги которых упираются в мешки с шерстью или в овцу, но сохранились надгробия и купцов других гильдий. Мы встречаем изобилие мэров и наместников, которые приказывали изображать на могильных плитах свои торговые знаки, а этими знаками они гордились не меньше, чем дворяне родовыми гербами, впрочем, причины для гордости у них имелись. Самое выразительное надгробие можно увидеть над знаменитой могилой в городе Линн, где купец Роберт Бранч лежит между двумя своими женами, а в ногах у него изображена сцена пира, который он устроил для короля Эдуарда III, поразив его тем, что к столу были поданы павлины. В Нортличе есть надгробие портного с ножницами, не менее славными, чем меч крестоносца, а в Сиренчестере — надгробие виноторговца, ноги которого упираются в бочку с вином. Встречаются надгробные плиты и людей попроще, которые были не так богаты, но с гордостью демонстрируют орудия своего ремесла — два или три нотариуса с гусиным пером и чернильницей, охотник с рогом, а в Ньюлэндской церкви лежит один из трех шахтеров Динского леса, облаченный в шляпу и кожаные бриджи до колен и держащий на плече деревянное корыто, в правой руке — небольшую мотыгу, а в зубах — подставку для свечи. Этот тип исторических источников поможет нам восстановить и историю жизни Томаса Пейкока. Надгробия членов его семьи находятся в северном крыле приходской церкви Святого Петра ад Винкула. Некоторые из них исчезли в течение прошедших полутора веков, и, к сожалению, не сохранилось надгробие самого Томаса, но все-таки в приделе остались две плиты — надгробие его брата Джона, умершего в 1533 году, и жены Джона, а также его племянника, тоже Томаса, который умер в 1580 году. На нем до сих пор виден товарный знак этой семьи. И наконец, третьим источником являются завещания Пейкоков, трое из которых хранятся в Сомерсет-Хаус: завещание Джона Пейкока (умер в 1505 году), отца Томаса и строителя дома, завещание самого Томаса Пейкока (умер в 1518 году) и завещание его племянника Томаса, того самого, чье надгробие находится в приделе церкви. Он оставил длинное и полное подробностей завещание, содержащее сведения по истории своего города и организации текстильного производства. Социальные историки пока еще редко обращаются к изучению завещаний. Трудно поверить, какое огромное количество сведений о жизни наших предков можно узнать из скорбных документов. Это понимают только те ученые, которым довелось листать страницы «Йоркского собрания завещаний». Из завещаний можно узнать, скольким дочерям отец мог обеспечить приданое, и скольких он отправлял в монастырь, и какое образование давал своим сыновьям. Можно узнать, какие религиозные дома были самыми популярными, и какие люди имели в домах книги, и что это были за книги, сколько денег купцы считали нужным тратить на благотворительные дела и что они думали о деловых способностях своих жен. Вы прочитаете длинные, удивительные списки фамильного столового серебра, где любимые чашки и блюда имели ласкательные прозвища, а также списки колец, брошек и четок. Приводятся подробные описания платьев и мехов, иногда совсем простых, иногда просто великолепных, поскольку люди передавали своим детям богатые одежды точно так же, как и драгоценности. Вы встретите еще более удивительные описания кроватей со всем постельным бельем и пологами, ибо кровать была очень дорогой мебелью и часто, судя по завещаниям, была действительно великолепна и красива. В адрес Шекспира было высказано много совершенно необоснованных упреков в том, что он оставил своей жене Энн Хетэвей кровать всего лишь второго сорта, хотя вполне мог бы оставить и первого. Но еще более красивыми, чем платья, кровати и пологи, были одеяния, сшитые из парчи или украшенные вышивкой, которые передавались по наследству. Огромный интерес вызывают тщательно расписанные погребальные церемонии. До нас дошли завещания всех видов, даже завещания крестьян, хотя теоретически все имущество крестьянина принадлежало его господину. Но больше всего сохранилось завещаний королей и королев, лордов и дам, епископов и приходских священников, юристов и владельцев торговых лавок. Здесь мы обнаруживаем много свидетельств социального процветания представителей среднего класса. Мы узнаем о том, чем они занимались, какие товары продавали в своих лавках, находим описания их домов и сельских поместий (иногда), ренты, которую они платили за свои городские дома (почти всегда), их буфетов со столовым серебром, украшений их жен, имена их подмастерьев и указания, к какой гильдии они принадлежат, описание их благотворительных дел, свидетельства их браков с дворянами и характеристику их религиозных взглядов. Словом, завещания дают нам живую картину повседневной жизни представителей среднего класса. Таковы три источника, с помощью которых можно воссоздать жизнь и эпоху Томаса Пейкока. Все они — дома, надгробия и завещания — свидетельствуют о быстром росте в последние два столетия Средневековья крупного и процветающего среднего класса, богатства которого были основаны не на земельной собственности, а на занятиях промышленностью и торговлей. Мы уже встречались с типичными представителями этого класса — Томасом Бетсоном и домовладельцем из Парижа, имени которого история для нас не сохранила. Теперь же мы посмотрим, что расскажут нам о суконщике Томасе Пейкоке его дом, завещание и надгробия членов его семьи. В первую очередь они сообщают нам о том благородном деле, которое его обогащало. Дом Пейкока полон реликвий суконной промышленности. Торговый знак Пейкоков — хвост горностая, похожий на лист клевера из двух лепестков, — можно найти и на резных балках потолка, и на передних панелях каминов, он же изображен и в центре резной полосы, тянущейся по фасаду дома. Томас помечал этим знаком свои тюки с тканями, и нужны ли ему были военные атрибуты дворянских гербов? Весь дом — это дом человека из породы нуворишей, жившего в ту пору, когда быть нуворишем еще не считалось вульгарным. О его процветании свидетельствует изысканный орнамент, украшающий дом. По фасаду тянется резная полоса, от резного стебля которой в виде ветвей отходят сотни очаровательных изображений — это листья, завитки, какие-то необычные цветы, человеческие головки, розы Тюдоров, король и королева с коронами на головах лежат, взявшись за руки, младенец с толстыми ножками прыгает в цветок лилии, а в самом центре на щите видны торговый знак и инициалы владельца дома. В зале мы видим прекрасный потолок из резного дуба, причем резьба здесь очень замысловатая, а через равные промежутки встречается торговый знак владельца. На втором этаже, в большой спальне, балки потолка круглые, на этом же этаже находится изысканная маленькая гостиная, стены которой обиты сложенным вдвое льняным полотном, а на панелях камина вырезаны фантастические животные. Сложность декора была характерна для этого периода. Столь же богато украшена и Когсхолльская церковь и все другие высокие и просторные храмы Восточной Англии, Лавенхэма, Лонг-Мелфорда, Тэкстеда, Сэффрон-Уолдена, Линна и Снеттишема. Эти церкви суконщики построили на свои недавно приобретенные деньги. Сама архитектура здесь особая, в стиле нуворишей, очень похожая на тех, кто оплачивал создание этих сооружений. Скромное величие раннеанглийского стиля сменил сложный орнамент и пышные украшения. Это была как раз та архитектура, за которую купец был готов платить большие деньги. Средний класс стремился выставить напоказ свои богатства, но это делалось без хвастовства и вульгарности. Глядя на свой красивый дом или стоя в приделе Святой Катерины над надгробиями с торговой маркой своих предков, Томас Пейкок, должно быть, частенько благословлял кормившее его дело. В завещаниях Пейкоков мы читаем то же самое, что и в завещаниях других купцов. Помимо членов своей семьи, Томас оставил деньги добрым людям, которые жили по соседству и работали на него. Это была семья Гуддей, два члена которой работали обрезальщиками ворса, то есть придавали сукну товарный вид, и Томас оставил им крупные пожертвования. «Завещаю Томасу Гуд-дею, обрезальщику ворса, 20 шиллингов и всем его детям по 3 шиллинга 4 пенса каждому. Далее, завещаю Эдварду Гуддею, обрезальщику ворса, 16 шиллингов 8 пенсов, а его ребенку — 3 шиллинга 4 пенса». Помимо этого, он завещал деньги Роберту Гуддею из Сэмпфорда и брату Роберта Джону, а также всем сестрам Роберта, добавив небольшую сумму Грейс, своей крестнице. Не забыл он и Николаса Гуддея из Стипстеда и Роберта Гуддея из Когсхолла и членов их семей, а также их родственника Джона, священника, — ему он оставил 10 шиллингов, чтобы тот отслужил по нему заупокойную службу на тридцатый день после похорон. Все эти Гудцеи, вне всякого сомнения, были связаны с Томасом Пейкоком не только по работе, но и узами дружбы. Они принадлежали к известной в Когсхолле семье, несколько поколений которой занимались производством сукна. Тезка Томаса и его внучатый племянник, чье завещание датировано 1580 годом, продолжал поддерживать с ними тесные отношения и оставил «Эдварду Гуддею, моему крестнику, 40 шиллингов и всем братьям и сестрам означенного Эдварда, которые будут живы на момент моей кончины, по 10 шиллингов каждому» и «Вильяму Гуддею другие 10 шиллингов». В наши дни, когда все спешат, а члены семей разбросаны по всей стране, трудно представить себе стабильную, спокойную жизнь города или деревни прошлых веков, когда поколение за поколением рождалось и умирало в одном и том же доме, на той же самой мощенной булыжником улице и дружило с членами другой семьи, как их отцы и деды до них. Другие друзья и работники Томаса Пейкока тоже получили свою долю. Он оставил 6 шиллингов 8 пенсов Хэмфри Стонору, «бывшему одно время моим подмастерьем». Можно представить себе, как Хэмфри Стонор, еще не до конца проснувшийся, морозным утром спускается с чердака, расположенного под высокой крышей, где, вероятно, спали подмастерья. Без сомнения, этот наглый молодой человек из хорошей семьи дружил с ткачами и сукновалами, которых его хозяин обеспечивал работой. Возможно, он был родственником тех самых Стоноров, у которых служил Томас Бетсон. Делони писал, что «младшие сыновья рыцарей и дворян, которым их отцы не могли передать в наследство землю, предпочитали осваивать ремесло суконщика, чтобы жить в хорошем доме и достатке». Двое из его друзей получили приличное наследство, очевидно, Томас Пейкок давал им денег взаймы и хотел после своей смерти избавить их от долга, ибо, согласно его последней воле, он завещает «Джону Бейчему, моему ткачу, 5 фунтов, поскольку между нами было так много, и еще мантию и дублет… Я прощаю Роберту Тейлору, сукновалу, все, что было между нами, и завещаю ему 3 шиллинга 4 пенса». Другие суммы, указанные в его последней воле, свидетельствуют о том, что он проводил крупные денежные операции. «Завещаю всем моим ткачам, сукновалам и обрезальщикам ворса, чьи имена идут впереди Рехерседа, по 12 пенсов каждому, а те, кто выполнял для меня большую работу, получат по 3 шиллинга 4 пенса каждый. Далее, завещаю распределить среди моих трепальщиков, чесальщиков и прядильщиков сумму в 4 фунта»[23]. Здесь представлены люди всех профессий, которые были заняты в производстве сукна. Жизнь всех этих людей вращалась вокруг суконщика Томаса Пейкока. Он раздавал женщинам шерсть, чтобы они трепали, чесали и пряли ее; забирал у них пряжу и передавал ткачам, которые ткали сукно. Затем он отдавал ткань сукновалам, и они валяли его, а после этого — красильщикам, чтобы те его окрасили. Получив готовое изделие, он собирал отрезы сукна в дюжины и отсылал торговцу мануфактурой, который их продавал. Вероятно, он посылал свою продукцию тому самому «Томасу Перпойнту», которого называет «своим кузеном» и делает своим душеприказчиком. Вся ежедневная работа Пейкока видна в его завещании. В год его смерти на него трудилось большое число работников, и он относился к ним снисходительно и по-дружески. Строительство дома вовсе не означало, что он решил отойти от дел, как случилось с другим крупным суконщиком, Томасом Долманом. Когда тот перестал заниматься текстильным производством, ткачи Ньюбери ходили по округе и жаловались: Пожалей ты, Боже, работяг нас сирых. Судя по завещанию Пейкока, он относился к своим работникам очень тепло. Но так было не у всех, ибо хотя суконщики того времени и обладали рядом достоинств, присущих капиталистам, но и недостатков у них было хотя отбавляй — так что извечная борьба между трудом и капиталом в XV веке развернулась вовсю. Но завещание Пейкока не проясняет для нас одну деталь — нанимал ли он только ткачей-надомников или, помимо этого, устанавливал ткацкие станки у себя дома? В ту пору, когда жил Пейкок, среди преобладавшей системы надомных работ стали появляться уже миниатюрные фабрички. Суконщики устанавливали в своих домах ткацкие станки и нанимали бродячих ткачей. Рабочие, трудившиеся в домашних условиях, были этим очень недовольны, ибо их либо превращали из свободных мастеров в наемных работников, обязанных трудиться в доме хозяина, либо они обнаруживали, что оплата их труда уменьшается из-за конкуренции странствующих ткачей. Более того, суконщики иногда покупали станки и сдавали их в аренду свободным ткачам, которые в результате этого попадали в определенную зависимость от хозяина. В течение всей первой половины XVI века ткачи из текстильных районов Англии засыпали парламент петициями с требованием отменить эту практику. Похоже, что они предвидели появление в Англии фабричного производства, при котором рабочий уже не будет собственником сырья, инструментов, мастерской или продуктов своего труда и ему будет принадлежать только его труд, а бывший свободный ткач превратится в наемного рабочего. Все это ткачи поняли задолго до того, как фабричная система утвердилась в стране. Практика сдачи станков в аренду появилась и в Эссексе, откуда примерно через двадцать лет после смерти Томаса Пейкока ткачи направили в парламент петицию против суконщиков, которые завели у себя дома не только свои собственные станки, но и своих ткачей и сукновалов, чем обрекли авторов петиции на голод и нищету, «ибо богатые люди, суконщики, заключили между собой соглашение платить единую цену за изготовление означенного сукна». Эта цена была такой мизерной, что, работай они весь день и всю ночь, в праздники и в будни, все равно не смогли бы прокормить свои семьи. В результате этого многие ткачи потеряли свою независимость и превратились в слуг богачей. Тем не менее система надомной работы еще преобладала, и, без сомнения, большинство ткачей Пейкока работало в своих собственных домах, хотя вполне вероятно, что в его доме было несколько станков, которые стояли в длинной задней комнате с низким потолком. В таких комнатах, по традиции, работали ткачи — в сарае ли, в «прядильном ли доме». Идиллическая картина работы на такой небольшой фабрике, которую вполне можно применить и к нашему герою, была создана в поэме Делони «Приятное путешествие Джека из Ньюбери». Джек из Ньюбери реально существовал — это был хорошо всем известный суконщик по имени Джон Уинчком, который умер в Ньюбери через год после Пейкока и о котором Томас наверняка слышал, ибо его грубое домотканое сукно отлично продавалось на континенте, и старина Фуллер, прославивший его в своей книге «Добродетели Англии», называет его «самым богатым суконщиком (без преувеличения), когда-либо жившим в Англии». Рассказы о том, как он привел сотню своих подмастерьев на Флодцен-Филд, как он угощал короля и королеву в своем доме в Ньюбери, как он построил часть Ньюберийской церкви и как он отказался от звания рыцаря, предпочтя «до самой своей смерти ходить в костюме из грубого домотканого сукна», разлетелись по всей Англии, обрастая по пути все новыми и новыми подробностями. В 1597 году Томас Делони, создатель жанра романа, изложил эти рассказы в своем произведении, частично в прозе, частично в стихах, и роман вскоре стал исключительно популярным. Именно отсюда мы приведем придуманное автором описание работ в доме суконщика, не забывая при этом, что автор сильно преувеличил размеры предприятия Джйна Уинчкома, который конечно же никогда не имел двухсот станков в своем доме, а Томас Пейкок, вероятно, имел не более дюжины. Но поэт имеет право на преувеличения, ибо, в конце концов, главное в балладе — ее дух, и всегда приятно сменить прозу на рифмованные строки: В одной из комнат, длинной и большой, Личную жизнь Пейкока, как и его деловую, можно воссоздать по завещанию. Правда, оно довольно мало говорит нам о его семье. Первую жену Томаса звали Маргарет, чьи инициалы вместе с его собственными украшают резьбу по дереву в доме. Вполне вероятно, что старый Джон Пейкок построил этот дом для молодоженов ко дню их свадьбы. Дом стал свидетелем буйного веселья, ибо наши предки знали, как справлять свадьбы, и традиционно Англия никогда так не веселилась, как в тот день, когда жених вводил в дом свою невесту. Чтобы воссоздать эту сцену, обратимся снова к идиллии Делони. «Невеста была облачена в платье из домотканой шерстяной ткани красновато-коричневого оттенка, юбку из прекрасного вустеда и головной убор, украшенный золотом. Волосы того же цвета, что и золотая подвеска, прикрепленная сзади, были заплетены в косы и уложены в замысловатую прическу по моде того времени. Она вошла в церковь в сопровождении двух красивых мальчиков, шелковые рукава которых были украшены кружевами и розмарином. Впереди невесты несли красивую чашу из серебра с позолотой, в которую поместили большую, обильно позолоченную ветку розмарина, а вокруг висели шелковые ленты самых разнообразных цветов. Перед чашей шли музыканты, непрерывно игравшие на своих инструментах. Позади невесты Шли девушки из самых богатых семейств графства — одни из них несли большие свадебные пироги, а другие — красивые позолоченные гирлянды из стеблей пшеницы. Нет нужды говорить здесь о женихе, который, будучи всеми любим, не нуждался в сопровождении юношей из лучших семей, помимо купцов из Стиляр-да, которые приехали на свадьбу из Лондона. Когда венчание закончилось, они отправились тем же порядком домой и сели за свадебный пир, где не было недостатка ни в веселье, ни в музыке… Свадьба продолжалась десять дней, к великой радости бедняков, живших в округе». Под прекрасной резной крышей зала танцевали до упаду, пели, играли, целовались, позабыв о делах. Веселье не прекратилось даже тогда, когда новобрачные удалились в спальню, украшенную круглыми балками на потолке. Утром, сидя на огромной кровати с пологом на четырех столбиках, они принимали своих друзей. Наши предки не отличались чрезмерной деликатностью. Как писал Генри Беллингер (он был совсем не похож на жизнерадостного Делони, но был современником Пейкока, и его перевел Ковердейл, так что дадим ему слово), «после ужина снова заиграла музыка, и все пустились в пляс. Хоть они и были молоды, но очень устали от постоянного шума и неудобств, которые проистекали оттого, что к ним в комнату постоянно кто-то ломился, и они не знали ни минуты покоя. Невоспитанные и бесшабашные люди приходили к двери их спальни и пели непристойные и скабрезные песни, приводя в неистовый восторг дьявола». Дорого бы мы сейчас отдали за то, чтобы услышать хотя бы одну из этих непристойных баллад! Невеста Маргарет, которая после этой веселой свадьбы стала хозяйкой в Когсхолле, была родом из Клера, откуда вышли и сами когсхолльские Пейкоки. Она была дочерью Томаса Хоррольда, к которому Пейкок сохранил живую признательность и уважение. Создавая часовню в своей церкви, он заботился о спасении не только своей души, но и душ своей жены, матери и отца и своего тестя Томаса Хоррольда из Клера. Он также завещал пять фунтов, на которые его душеприказчики «должны были изготовить надгробный камень, который надо было отвезти в Клер-скую церковь и установить на могиле моего тестя Томаса Хоррольда с изображениями его самого, жены и детей» (то есть мемориальное надгробие), а также передать Клерской церкви пять коров или три фунта деньгами, чтобы «надгробие моего тестя Томаса Хоррольда поддерживалось в порядке». Он также оставил деньги брату и сестрам своей жены. Маргарет Пейкок умерла раньше мужа, детей у них не было, и только племянники и племянницы Роберт и Маргарет Апшер, дети его сестры, Джон, сын его брата Джона, и Томас, Роберт и Эмма, дети его брата Роберта, а может быть, и его маленькая крестница Грейс Гудцей играли в просторном зале или забирались на буфет, чтобы найти маленькую, размером с каштан, головку среди резных украшений потолка. Наверное, надеясь на рождение сына, которому он мог бы оставить дом и имя, Томас Пейкок женился во второй раз, на девушке по имени Энн Коттон. Она скрасила его старость, эта «Энн, моя добрая женушка», и ее присутствие оживило прекрасный дом, в котором после смерти Маргарет стало тихо и пустынно. Ее отец, Джон Коттон, упомянут в завещании, а ее братья Ричард и Вильям и сестра Элеонора получили приличные суммы. Но Томас и Энн не долго наслаждались семейной жизнью. Она была беременна, но он умер еще до рождения ребенка. В своем завещании он обеспечил Энн безбедную жизнь, оставив ей пятьсот марок стерлингов, а прекрасный дом оставался за ней до ее смерти. К своим подробным инструкциям в завещании он добавляет еще одну: «Пусть моя жена Энн владеет моим домом, в котором мы с ней жили, и живет в нем в свое удовольствие, и моей голубятней, стоящей в саду». Перерыв в записях семьи Пейкок не позволяет нам узнать, умер ли сын Томаса Пейкока или остался жив, но скорее всего Энн родила девочку или его сын умер, ибо Пейкок, на случай, если у него не будет наследника по мужской линии, завещал дом своему племяннику Джону (сыну своего старшего брата Джона), и в 1575 году мы обнаруживаем, что в доме живет тот самый Джон Пейкок, а соседний дом принадлежит Томасу Пей-коку, сыну его брата Роберта. Томас умер в 1580 году, оставив после себя одних дочерей, а после него, в 1584 году, скончался и Джон Пейкок, с грустью отмеченный в приходском журнале как «последний представитель этой фамилии в Коксолле». Так прекрасный дом ушел из рук великой семьи суконщиков, которые жили в нем почти сто лет[24]. Завещание говорит нам также и о характере Томаса Пейкока. Он был, очевидно, добрым и снисходительным работодателем, о чем свидетельствует его забота о рабочих и их детях. Его часто приглашали в крестные отцы ребятишек, родившихся в Когсхолле, поскольку в завещании он просит, чтобы на его похоронах и на службах на седьмой и тридцатый день после них присутствовали «двадцать четыре или двадцать два ребенка в стихарях, которые держали бы в руках тонкие восковые свечи, и пусть всех их считают моими крестниками и выдадут каждому по 6 шиллингов 7 пенсов, а всем другим детям — по 4 пенса каждому… а мои крестники, помимо этого, должны получить еще 6 шиллингов 7 пенсов каждый». Все эти дети, вероятно, с самого раннего возраста работали на Пейкока, сортируя шерсть. «Бедняки, — пишет Томас Делони, — которых Господь с легким сердцем благословлял множеством детей, стремились пристроить их к этому делу, так что, когда им исполнялось шесть или семь лет, они могли уже сами зарабатывать себе на кусок хлеба». Когда Дефо проехал из Блэкстоун-Эджа в Галифакс, осматривая по пути текстильные мануфактуры, которые имелись во всех деревнях Вест-Рединга, то его больше всего восхитило то, что «все были заняты делом — от самых юных до самых старых. Ребенку только исполнилось четыре, а он уже кормит себя своим собственным трудом». Таким образом, использование труда детей столь раннего возраста — вовсе не изобретение Промышленной революции. Томас Пейкок имел множество друзей не только в Когсхолле, но и в соседних деревнях, о чем говорят записи в его завещании. Он был членом Братства крестоносцев в Колчестере и оставил им после своей смерти 5 фунтов, чтобы они молились «за меня и за тех, за кого должен молиться я». В эпоху Средневековья было в обычае, когда монашеские ордена давали богатым вкладчикам и выдающимся людям возможность вступить в их ряды. Церемония принятия нового члена была длинной и сложной, во время которой вступающий получал поцелуй ото всех братьев ордена. Принятие Томаса Пейкока. в «Братство крестоносцев» свидетельствовало, что в округе к нему относились с большим уважением. Кроме того, он, по-видимому, испытывал особую симпатию к различным монашеским братствам, ибо оставил францисканцам Колчестера и обителям Малдона, Чемсфорда и Садбери по десять шиллингов для того, чтобы они отслужили по нему службу на тридцатый день, и по 3 шиллинга 4 пенса на починку их домов, а братьям из Клера завещал 20 шиллингов для двух служб на тридцатый день «и бочку копченой следки для Великого поста после моей смерти». Он проявлял большой интерес и к Когсхолльскому аббатству, которое находилось менее чем в одной миле от его дома, и в праздничные дни, должно быть, обедал с аббатом в его гостевом доме и слушал мессу в церкви монастыря. Умирая, он вспомнил об этом аббатстве, о том, как звон колоколов, призывающих монахов на вечернюю службу, разносился далеко в теплом сентябрьском воздухе. Томас Пейкок оставил «милорду аббату и монастырю» отрез одной из самых знаменитых своих тканей — тонкого сукна с шелковистой отделкой и 4 фунта деньгами, «чтобы они отслужили по мне панихиду и мессу, а на моих похоронах, когда в церкви будет идти служба, пусть звучат колокола, а на седьмой день и через месяц — все то же самое, и еще три заупокойные службы на тридцатый день, дели они смогут отслужить их, или тогда, когда у них будет свободное время, на все это — десять фунтов». Его набожность проявилась и в том, что он завещал деньги церквам в Брэдвеле, Пэттисвике и Маркшелле — приходах, соседствующих с когсхолльским, и церквам в Стоун-Нейленде, Клере, Послингфорде, Овингтоне и Бошаме Святого Павла, которые расположены за границей Эссекса, в том районе, откуда Пейкоки переселились в Когсхолл. Но главной его заботой была конечно же Когсхолльская церковь. Один из Пейкоков, вероятно, выстроил в ней северный придел, посвященный святой Катерине, и все могилы Пейкоков находятся именно там. В своем завещании Томас Пейкок просил похоронить его перед алтарем Святой Катерины и сделал церкви богатые подарки. Он основал здесь также часовню и оставил деньги для ежедневной раздачи шести беднякам, которые будут трижды в неделю слушать мессу в этой часовне. Все эти вклады, сделанные в монастырские ордена и церкви, говорят о набожности и семейной гордости Пейкока. Другие вклады, принимавшие формы, характерные для средневековой благотворительности, рассказывают нам о повседневных привычках Томаса Пейкока. Он, должно быть, часто ездил за границу, чтобы встретиться с людьми, которые работали на него, или посещал друзей, живших в деревнях вокруг Когсхолла. Нередко посещал он и Клер, сначала чтобы увидеть дом своих предков, а затем чтобы посвататься к Маргарет Хоррольд и позже, уже вместе с Маргарет, чтобы навестить любимого тестя. Несомненно, идя в церковь в Когсхолле или проезжая по дорогам графства, он часто сокрушался о том, в каком ужасном состоянии они находятся. Зимой по ним текли потоки грязи, а летом было множество ям и ухабов, ибо в Средние века ремонт дорог производился только на пожертвования жителей, церквей или монастырей, и все они, за исключение главных дорог страны, находились в плачевном состоянии. Ленгленд в своем «Петре-пахаре» говорит об исправлении дурных путей (он имеет в виду не вредные привычки, а плохие дороги) как об одном из благотворительных дел, которым должны заниматься богатые купцы ради спасения своей души. Путешествия, в которые отправлялся Томас Пейкок, были крайне утомительными, и он возвращался домой совершенно измотанным, весь обляпанный грязью, к огорчению «Джона Рей-нера, моего человека» или «Генри Бриггса, моего слуги» и жены Маргарет, которая выглядывала из окна эркера, с нетерпением ожидая его возвращения. Своему родному городу он оставил не менее сорока фунтов, из которых двадцать должны были пойти на ремонт участка Западной улицы (где стоял его дом), а другие двадцать «должны быть истрачены на ремонт разбитой дороги между Когсхоллом и Блэкуотером, там, где это более всего необходимо». Наверняка он испытал все прелести езды по этой дороге, посещая аббатство. Он оставил также двадцать фунтов на ремонт дороги между Клером и Овингтоном. По мере того как его жизнь приближалась к концу, он стал ездить гораздо реже. Дни проходили спокойно — дело его процветало, а сам он пользовался всеобщей любовью и уважением. Он занимался своим домом, постоянно украшая его. В прохладные вечера он, должно быть, стоял у окна садовой комнаты и наблюдал, как монахи аббатства ловят рыбу в своем большом пруду позади пашни, или поднимал глаза и смотрел, как последние лучи заходящего солнца скользят по покрытой лишайником крыше вместительного сарая, или следил за тем, как арендаторы относят в свои дома снопы сжатой пшеницы. Наверное, он думал, что его собственные арендаторы, Джон Машл и Томас Спунер, — хорошие, надежные друзья и надо бы завещать им что-нибудь из одежды или пруд. Часто также в последние год-два своей жизни он, должно быть, сидел с женой в саду и наблюдал, как его голуби кружатся над яблонями, и улыбался, любуясь клумбами с цветами. А зимой он иногда надевал свой меховой плащ и шел в таверну «Дракон», где Эдвард Элворд приветствовал его поклонами. Он садился к столу и выпивал в обществе своих соседей бЬлыную кружку сухого испанского вина, очень медленно и с достоинством, как и полагается самому богатому суконщику города, снисходительно поглядывая на собравшуюся компанию. Но иногда он хмурился, заметив монаха, который тайком улизнул из монастыря, чтобы, несмотря на все запреты епископа и аббата, попить винца. При этом Томас качал головой и жаловался, что служители церкви стали теперь совсем не такими, какими были в старые добрые времена. Тем не менее из его завещания видно, что он не придавал этому большого значения и даже представить себе не мог, что через двадцать лет после его смерти аббат и монахи будут изгнаны из монастыря, а слуги короля продадут на торгах свинец с крыши Когсхолльского аббатства! Не мог он себе представить и того, что через четыреста лет его красивый и веселый дом с резным потолком и гордым торговым знаком все еще будет стоять целым и невредимым, зато церковь аббатства превратится в тень на поверхности поля, а от комплекса его зданий останется только крытая внутренняя галерея, где будут прятаться от дождя голубые эссекские фургоны, перевозящие сено. Так мирно проходили последние дни Томаса Пейкока, жившего в прекрасном графстве, которое называли самым английским из всех, в «богатом, плодородном и полном приносящих прибыль вещей»[25], чьи невысокие пологие холмы, развесистые вязы и высокие небеса, покрытые облаками, так любил писать Констебль. Настал сентябрьский день, когда над улицами Когсхолла нависла мгла, когда замолчали прялки в домах и пряхи и ткачи стояли группками у прекрасного дома на Западной улице, зная, что великий суконщик умирает в своей спальне на втором этаже, где прошла его первая брачная ночь. Его жена, плача, сидела рядом, понимая, что он уже никогда не увидит их ребенка. Через несколько дней дома жителей Когсхолла снова опустели, и толпа плачущих людей отправилась провожать Томаса Пейкока в последний путь. Церемония его похорон была проведена достойно — священники отслужили панихиды не только в день погребения, но и на седьмой и тридцатый дни после его смерти. Лучше всего она описана в его завещании, ибо Томас Пейкок, следуя обычаю своего времени, дал своим душеприказчикам подробную инструкцию по этому поводу. «Я прошу моих душеприказчиков организовать все в день самих похорон, а также на седьмой и тридцатый день таким образом: в день похорон на службе и на панихиде должны присутствовать священники, певчие и дьяконы, сколько их можно будет собрать в этот день, чтобы они отслужили заупокойную службу, а если представится такая возможность, то они должны будут служить ее ежедневно до седьмого дня. А на тридцатый день все мои душеприказчики должны будут заказать еще одну службу и снова собрать певчих и дьяконов, как и раньше, и они должны будут отслужить три мессы с музыкой: одну в честь Святого Духа, другую — в честь Богородицы, а во время третьей исполнить реквием, и все это должно быть исполнено в день самих похорон, а также на седьмой и тридцатый дни. И священники должны получить за это 4 пенса, а дети — каждый раз по 2 пенса, а те, кто понесет факелы в день похорон, — 12 пенсов и еще 6 на седьмой день и 12 — на тридцатый. Пусть двадцать три или двадцать маленьких детей в стихарях несут свечи в руках, и пусть все они будут считаться моими крестными детьми и получат 6 шиллингов 8 пенсов каждый, а все другие дети — по 4 пенса каждый, и пусть все люди, которые понесут факелы в указанные дни, получат по 2 пенса каждый, и все мужчины, женщины и дети, которые возденут вверх руки в любой из этих дней, получат по пенсу каждый. И пусть также мои крестники помимо этого получат 6 шиллингов 8 пенсов каждый, а звонари за все эти три дня — по 10 шиллингов, и на мясо, питье и два вызова врача и для проведения панихиды и перенесения моего тела в церковь я выделяю один фунт». Эти распоряжения очень сильно отличаются от скромных инструкций Томаса Бетсона: «Не тратьте на мои похороны слишком много денег, пусть они будут скромными, трезвыми и достойными во имя по'Лггания и прославления Всемогущего Бога». Богатый суконщик тоже не забывал о Боге, но на его погребальные церемонии было истрачено более пятисот фунтов в переводе на наши деньги — больше, чем на создание часовни. Хорошо, что его глаза закрылись навсегда еще до того, как во время Реформации были закрыты все часовни в Англии, а с ними и часовня Пейкоков в приделе Святой Катерины, в которой еженедельно выдавалась милостыня шести беднякам. Томас Пейкок жил в старые добрые времена, но через четверть века жизнь в Эссексе начала меняться. Монахов выгнали из аббатства, а с его храма содрали крышу; звучный латинский язык перестал звучЗть'подсьодами церквей, и священники не молились больше за упокой души Томаса и его жены, а также его родителей и тестя. Произошли перемены и в текстильной промышленности — с появлением более тонких видов ткани графство еще больше разбогатело. Эти ткани были принесены сюда ловкими чужаками, «торговцами новой мануфактурой», которые получили прозвище «Байка-болтайка». Ибо, как поется в одной английской песенке: Хмель, Реформация, байка и пиво Когсхолл стал еще более знаменитым благодаря новой ткани под названием «коксальская байка», которую начали изготовлять племянники Томаса Пейкока, когда он уже лежал в могиле[26]. Впрочем, одна вещь не переменилась — прекрасный дом Томаса Пейкока продолжал стоять на Западной улице, напротив дома викария, и радовал глаз всех, кто его видел. И он по-прежнему стоит здесь, и, когда мы смотрим на него и вспоминаем Томаса Пейкока, который когда-то жил в нем, нам на память приходят знаменитые слова Екклесиаста:
Богатые люди, наделенные талантами, мирно жили в своих домах — все они пользовались почетом у своих современников и были славою своего времени. 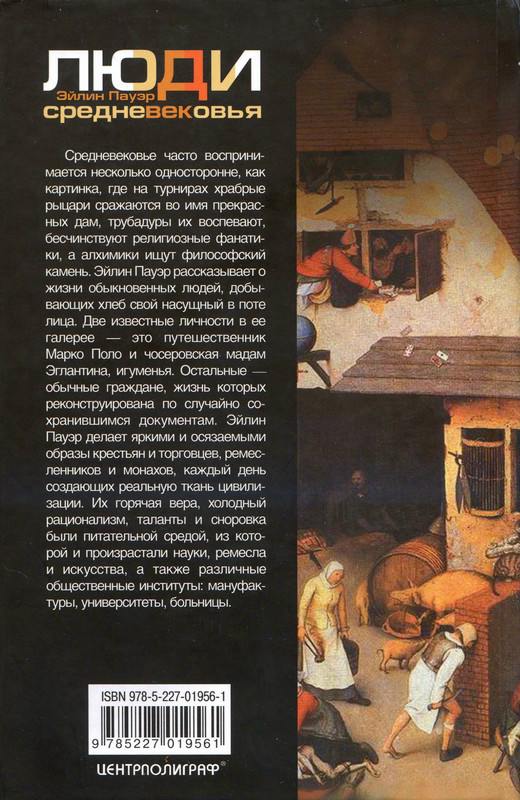  
Примечания:2 Приводим здесь описание роскошных одежд франкской знати, составленное монахом прихода Святого Галла: «Был праздник, и они только что приехали из Павии, куда венецианцы свозят все богатства Востока со своих заморских территорий — другие, говорю я, вышагивали в одеждах, украшенных шелками и фазаньими шкурками или шеями, спинами и перьями павлинов на своих плюмажах. Некоторые были украшены лентами пурпурного или лимонного цвета; некоторые были задрапированы в покрывала, другие — в горностаевые мантии». Однако в переводе были допущены вольности — «платье из феникса», указанное в оригинале, скорее всего, было сделано не из перьев фазана, а из перьев розового фламинго, как полагает Ходсон в книге «Древняя история Венеции», или из шелка, на котором были вышиты или вытканы фигуры птиц, как думает Хейд («История левантийской торговли»). 23 В завещании другого Томаса Пейкока, суконщика, умершего в 1580 году, тоже говорится о семейном деле. Он оставляет двадцать шиллингов «Вильяму Гиону, моему ткачу», а также «семь фунтов десять шиллингов полновесных денег Англии для распределения среди тридцати беднейших бродячих сукновалов в окрестностях Когсхолла, то есть по пять шиллингов каждому». Вильям Гион, или Гийон, был родственником очень богатого суконщика, Томаса Гийона, крещенного в 1592 и похороненного в 1664 году, который, как говорят, скопил благодаря торговле сто тысяч фунтов. Зять Томаса Пейкока Томас Тил также был выходцем из семьи суконщиков, ибо в сертификате, датированном 1577 годом, где указана вся шерсть, купленная суконщиками Когсхолла за последние три года, встречаются имена Томаса Тила, Вильяма Гиона, Джона Гуддея (семье которого первый Томас Пейкок оставил кое-какие деньги), Роберта Егона (который был упомянут случайно в завещании, как человек, имеющий дом рядом с церковью, и который был отцом епископа Норичского). 24 Дом в конце концов перешел в руки другой семьи суконщиков, Бакстонов, правда, неизвестно, в какое время. Представители этой семьи до 1537 года заключали браки с представителями семьи Пейкок. Вильям Бакстон (умер в 1625 году) называл себя «суконщиком из Когсхолла» и завещал все свои станки сыну Томасу. Когда отец умер, Томасу было семнадцать, он прожил до 1647 года, занимаясь суконным делом, и дом, несомненно, принадлежал ему. Он или его отец, должно быть, купили его у душеприказчиков Джона Пейкока. От него он перешел к его сыну Томасу, тоже суконщику (умер в 1713 году), который завещал его своему сыну Исааку, суконщику (умер в 1732 году). Два старших сына Исаака тоже были суконщиками, но вскоре после смерти отца отошли от дел. Он, очевидно, позволил своему третьему сыну, Джону, жить в доме в качестве квартиранта, и Джон еще в 1740 году жил здесь. Но Исаак в 1732 году завещал дом своему младшему сыну, Самюэлю, а Самюэль, умерший в 1737 году, передал его брату Чарльзу, четвертому сыну Исаака. Чарльз в нем не жил, поскольку большую часть своей жизни занимался торговлей маслом в Лондоне, хотя и похоронен среди своих предков в Когсхолльской церкви. В 1746 году он продал дом Роберту Лодгейтеру, и он ушел из рук Пейкоков-Бакстонов и с течением времени обветшал и был превращен в два отдельных коттеджа, а прекрасный потолок был оштукатурен и побелен. Несколько лет назад его уже собирались снести, но, к счастью, его купил и отремонтировал Ноэль Бакстон, прямой наследник семьи Бакстон по линии Чарльза, того самого, который продал его. 25 «Это графство самое богатое, плодородное и полно вещей, приносящих прибыль, превышая (насколько мне удалось узнать) некое другое графство по количеству товаров общего потребления и по изобилию, хотя некоторые гораздо выше оценивают Саффолк (с которым я еще не ознакомился). Но это графство, по моему мнению, вполне заслуживает титула английского Гошена, богатейшей земли, сравнимой лишь с Палестиной, полной молока и меда» (Норден. Описание Эссекса. 1594). 26 Если верить Лику, который в 1577 году писал: «Первое прядение на ручных прялках и изготовление коксольского сукна началось около 1528 года… Первые ткачи Коксола были обучены неким Бонвизом, итальянцем…» |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
