|
||||
|
Владимир Лебедев ЛИЧНОСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ[6] Угроза для жизни В отличие от многих других профессий, деятельность летчиков, космонавтов, подводников и полярников протекает в условиях достаточно высокой степени риска погибнуть в результате аварий, катастроф и несчастных случаев. В основе определения степени риска лежит допущение, что каждый вид человеческой деятельности влечет за собой какую-то вероятность аварий и катастроф. Для летчика-истребителя риск погибнуть в мирное время в 50 раз выше по сравнению с летчиками гражданской авиации, для которых он равен трем-четырем случаям смерти на 1000 летчиков. Так, за период с 1950 по 1970 г. военно-воздушные силы США в результате катастроф потеряли 7850 самолетов, при этом погибло 8600 летчиков. Особенно высока степень риска погибнуть в результате катастрофы у летчиков, испытывающих новые образцы летательных аппаратов. Американский летчик-испытатель У. Бриджмен писал, что во время освоения реактивных самолетов только на военно-воздушной базе Эдвардс за девять месяцев погибли 62 летчика-испытателя. Сам он тоже погиб в испытательном полете. Анализируя перспективы развития космонавтики, Г. Т. Береговой и др. отмечают: «Опыт выполнения пилотируемых космических полетов в СССР и США показывает, что проблема обеспечения безопасности экипажей космических аппаратов по мере усложнения программ полета становится все более актуальной и трудно реализуемой на практике». По оценке специалистов США, из каждой тысячи полетов космических кораблей с экипажами с пребыванием в космосе в среднем 24 часа в полете следует ожидать не менее 95 катастроф и аварий. Из них 50 % – на активном участке, 25 % – в полете, 15 % – во время возвращения на Землю. Так, американские астронавты В. Гриссом, Э. Уайт и Р. Чаффи погибли 27 января 1967 г. во время пожара в кабине космического корабля «Аполлон-1» на стартовой площадке. 23 апреля 1967 г. на участке возвращения на Землю произошел отказ парашютной системы корабля «Союз-1», в результате чего погиб космонавт В. М. Комаров. Космонавты Г. Т. Добровольский, В. Н. Волков и В. И. Пацаев погибли 29 июня 1971 г. в космическом пространстве из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11». 28 января 1986 г. во время старта взорвался космический корабль «Челленджер» с семью членами экипажа. Примером аварии во время космического полета может служить случай с американским кораблем «Аполлон-13», стартовавшим к Луне 11 апреля 1970 г. 14 апреля на корабле, находившемся на расстоянии 328 тыс. км от Земли, взорвался баллон с жидким кислородом. Осколками был поврежден и второй баллон. А так как этот кислород использовался для работы батарей топливных элементов, составляющих главный источник электроэнергии основного блока корабля и систем жизнеобеспечения, то экипаж оказался в критическом положении. Недостаток электроэнергии сразу же отразился на работе системы терморегуляции – температура внутри корабля упала до 5 градусов Цельсия. Все это происходило, когда «Аполлон-13» приближался к Луне. Только благодаря находчивости и мужеству астронавтов корабль, облетев Луну на расстоянии 250 км, вернулся на Землю. Во время космических полетов не исключена и возможность столкновения с метеоритом, а также получения больших доз радиации при взрывах на Солнце. «Вряд ли сейчас существует профессия, в которой чувство нового так неразрывно переплеталось бы с риском, как в профессии космонавта», – пишет Е. В. Хрунов. Глубины морей и океанов не случайно сравнивают сегодня с космосом. Американский астронавт С. Карпентер, проработав около месяца в подводной лаборатории «Силаб-2», заявил, что «морские глубины даже враждебнее человеку, чем космос». Только во время второй мировой войны 50 подводных лодок ряда зарубежных стран погибли не в бою, а из-за неисправностей в различных системах и агрегатах. В послевоенный период имели место аварии на подводных аппаратах (на 26 батискафах) и на дизель-электрических подводных лодках Англии, США, Франции, ФРГ, Японии и других стран, нередко сопровождавшиеся гибелью личного состава. На первой атомной лодке «Наутилус» во время плавания было обнаружено 159 дефектов. Подводной лодке «Хелибат» пришлось экстренно всплыть из-за течи в прочном корпусе. На «Тритоне» произошел взрыв, повлекший за собой пожар и потерю управляемости. Авария реактора произошла на подводном ракетоносце «Теодор Рузвельт». Когда подводная лодка «Скейт» совершала переход подо льдами Северного Ледовитого океана, у нее отказал главный конденсатор. Лодка не погибла только благодаря тому, что случайно удалось найти полынью в арктических льдах, всплыть и произвести ремонт. Ядерные подводные лодки «Натаниел Грин» и «Атланта» получили пробоины при ударах о грунт. В результате аварии в 1962 г. затонула подводная лодка «Трешер», на которой погибло 129 человек. В 1968 г. погибла подводная лодка «Скорпион» с 99 матросами и офицерами. Вот только несколько сообщений прессы за последние три года. В марте 1986 г. американская атомная подводная лодка «Натаниел Грин» потерпела седьмую аварию, натолкнувшись на дно в Ирландском море. 3 октября 1986 г. на советской атомной подводной лодке северо-восточнее Бермудских островов произошел пожар. Три человека погибли, несколько моряков получили ожоги и травмы. Лодка затонула. 26 апреля 1988 г. на американской подводной лодке «Бодифиш», находившейся в Атлантическом океане, произошел взрыв. Одиннадцать моряков пропали без вести, 20 получили тяжелые ожоги и травмы. 7 апреля 1989 года затонула советская атомная подводная лодка. Из 69 членов экипажа были спасены только 27 моряков. С 1959 года это пятая по счету наша затонувшая атомная подводная лодка. Причем одна из них тонула дважды. Опасность подстерегает человека и на полярных станциях. Так, на зарубежных арктических станциях в послевоенный период (до 1959 г.) в результате несчастных случаев (пожаров, падения в трещины, замерзания, отравления и других причин) погиб 81 человек и только четыре умерли от соматических заболеваний. Несчастные случаи со смертельными исходами имели место и на советских антарктических станциях. Так, 3 августа 1960 г. на станции Мирный во время пожара погибли восемь человек. Угроза для жизни определенным образом воздействует на психическое состояние людей. В вахтенном журнале дрейфующей станции «Северный полюс-2» есть запись океанолога М. М. Никитина: «С неудобствами можно мириться. Но вот с постоянной угрозой встречи с медведем никак не свыкнешься. И это отравляет наше существование». Ц. П. Короленко приводит наблюдения за членами экспедиции, прибывшими для работы в район дельты реки Лены: «Некоторые лица полушутя, полусерьезно, явно стесняясь, говорили, что “здесь как-то страшновато”». Следует отметить, что подавляющее большинство летчиков-космонавтов, подводников, полярников в условиях серьезного риска испытывают стенические эмоции, проявляют мужество и героизм. И все же если мы обратимся к истории авиации, то увидим, что проблема страха и бесстрашия в связи с опасностью полета с самого начала приобрела большое значение. Русский физик М. А. Рыкачев, совершивший в 1873 г. подъем на воздушном шаре, писал: «Управление шаром требует тех же качеств, которые необходимы морякам, – быстроты соображения, распорядительности, сохранения присутствия духа, осмотрительности и ловкости». Актуальность этой проблемы особенно возросла с развитием авиации. Одним из первых, кто стал изучать психологическое состояние человека во время полета, был русский врач Г. Н. Шумков, опубликовавший в 1912 г. статью, посвященную этим вопросам. Исследователям сразу бросалась в глаза психическая напряженность, обусловливаемая неуверенностью в надежности материальной части, в безопасности полета. В ряде случаев угроза для жизни вызывает у летчиков развитие неврозов, проявляющихся в тревожном состоянии. М. Фрюкхольм показал, что мрачные предчувствия и тревога являются субъективными аспектами состояния, возникающего у пилотов в ответ на опасность полета. По его мнению, такая адекватная реакция на опасность, как тревога, является необходимой для предупреждения катастрофы, поскольку она побуждает летчика к осторожности в полете. Но эта же тревога может вырасти в настоящую проблему боязни полета, которая проявляется либо явно, либо с помощью ссылок на недомогание. У некоторых летчиков развиваются невротические заболевания, оказывающиеся причиной отчисления их из авиации. Из-за относительно небольшого количества полетов не представляется возможным полностью оценить психогенное воздействие угрозы для жизни на космонавтов и астронавтов. При этом следует учитывать, что для космических полетов отбираются люди в основном из летчиков-истребителей, обладающих способностью подавлять эмоцию страха и успешно работать в условиях угрозы для жизни. По окончании подготовки к полету космонавты четко представляют себе, что необходимо делать при отклонениях в технических системах корабля в космосе. Это позволяет им быть уверенными, что они успешно справятся со всеми непредвиденными ситуациями. Однако, несмотря на это, угроза для жизни оказывает воздействие на психическое состояние космонавтов и астронавтов, о чем свидетельствуют их самонаблюдения. Приведем примеры. В. А. Шаталов: в космическом полете человек «не может избавиться от мысли, что находится далеко от Земли, в среде малоизученной и таинственной, где каждое мгновение его самого и его товарищей подстерегают неожиданности и опасности». Г. М. Гречко: «Я невольно сравнил ощущение человека во время боевого вылета с нервным напряжением космонавта. У него (у космонавта. – В.Л.) оно в течение всего полета». В. И. Севастьянов: «…мы, конечно, получали информацию о метеоритной активности, но одно дело – в цифрах, и другое – когда вдруг на стекле иллюминатора в бытовом отсеке П. Климук заметил эллипсоидную каверну 5х3 мм, а рядом еще десятка два поменьше следов от взрывов при столкновении стекла с микрометеоритами… Мы осознавали опасность столкновения с метеоритами…» П. И. Климук: «Незримо на борту орбитальной станции всегда присутствует ощущение опасности: ведь от космического вакуума тебя отделяет только тонкая обшивка. Это чувство не мешает работать, оно где-то в подсознании». В связи с этим представляет интерес следующее наблюдение. Во время полета Климук и Севастьянов почти постоянно держали включенным магнитофон. Известно, что музыка благотворно воздействует на человека, под нее приятнее выполнять предусмотренные программой задания. Но для постоянного звучания музыки была и другая причина. Как уже отмечалось, космонавты быстро привыкают к щелканью тумблеров автоматических устройств и другим монотонным звукам приборов и устройств и безошибочно определяют по этим шумам прохождение тех или иных команд. Эти-то шумы и заставляют их пребывать в постоянной готовности: «Пройдет команда или нет? Раздастся ли сигнал тревоги?» Музыка маскирует эти сигналы и дает возможность расслабиться. Участник первой экспедиции на Луну М. Коллинз рассказывал: «Там, в космическом пространстве, постоянно ловишь себя на мысли, которая не может не угнетать… Путь на Луну был хрупкой цепочкой сложных манипуляций. На каждого участника полета ложились огромные, порой нечеловеческие нагрузки – нервные, физические, нравственные. Космос не прощает даже малейших ошибок… А ты рискуешь главным – своей жизнью и жизнью товарищей… Это слишком большое напряжение, от которого не уйдешь и десять лет спустя». Вот как сложилась дальнейшая судьба «величайшей тройки» – Нейла Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза. Армстронг уединился в вилле в штате Огайо и всячески старается сохранить положение «добровольного изгнанника». Олдрин через два года после полета почувствовал, что нуждается в помощи психиатра. Трудно поверить, что в 46 лет он превратился в непрерывно трясущегося человека, погруженного в глубокую депрессию. Он утверждает, что стал таким вскоре же после своей «прогулки» по Луне. Коллинз, который несколько суток дежурил на лунной орбите и ждал там возвращения товарищей, возглавляет Национальный музей воздухоплавания и космонавтики, открытый в 1976 г. И еще одна любопытная деталь: после полета его участники ни разу не встречались. Здесь следует сказать, что и среди советских космонавтов некоторые даже не хотят вместе проходить послеполетную реабилитацию, просят развести их в разные санатории. Космонавт Г. С. Шонин пишет: «Да, труден, тернист путь в космос… Профессия космонавта предполагает огромный труд (и на земле, и в космосе), преданность своему делу, способность и готовность пойти на риск. На этом пути не только победы, но и поражения, и даже трагедии. Из двадцати человек “гагаринского набора” в Центре подготовки продолжают (на 1975 г. – В.Л.) работать только восемь. Кто погиб в космосе, кто – в воздухе, кто – на земле… У одних не выдержали нервы, других подвело здоровье… Таковы факты. Такова жизнь…» По ту сторону барьера При преодолении барьера, отделяющего обычные условия жизни от экстремальных, этап стартового психического напряжения сменяется этапом острых психических реакций входа. Продолжительность этого этапа колеблется от нескольких минут до трех-пяти суток. Развитие психических феноменов на этом этапе зависит от специфического воздействия психогенных факторов. 1. Эмоциональное разрешение После отделения от самолета в течение нескольких секунд до раскрытия парашюта человек подвергается ряду кратковременных, но резких и необычных для него воздействий, вызывающих ряд новых ощущений. Для этого момента характерны нарушения в психике у прыгающих впервые: они не в состоянии осознать, а затем воспроизвести в памяти детали и ощущения, пережитые ими в первые секунды свободного падения. Космонавт В. Ф. Быковский так охарактеризовал это состояние: «Как оттолкнулся от самолета – не помню. Начал соображать, когда рвануло за лямки и над головой “выстрелил” купол». После раскрытия парашюта у большинства прыгающих наступает радостный подъем настроения, переходящий очень часто в эйфорию. В. А. Шаталов рассказывает: «Стало тихо и спокойно. Посмотрел наверх – надо мной белел огромный купол. Хотелось смеяться, кричать, петь песни. Стало смешно – неужели это я так отчаянно трусил там, в самолете? Я готов был прыгать еще и еще…» Как уже отмечалось, чем ближе к старту космического корабля, тем сильнее психическое напряжение космонавтов. Сразу же после старта эмоциональное напряжение начинает спадать. Это хорошо видно при анализе частоты пульса у космонавтов, выполнявших одиночные полеты на кораблях «Восток», при ожидании старта и во время выведения корабля на орбиту. То, что резкое нарастание частоты пульса в период пятиминутной готовности и в момент старта обусловлено эмоциональным напряжением, подтверждается тем, что, несмотря на нарастание перегрузок в период выведения корабля на орбиту, частота пульса стала значительно снижаться. После выведения корабля на орбиту у космонавтов, как и после раскрытия парашюта при первых прыжках, отмечается эмоциональное состояние разрешения. В. А. Шаталов вспоминал: «Сердце мое билось учащенно. Чувствовалась какая-то необыкновенная легкость не только в теле, но и… в мыслях. Хотелось прыгать, петь, смеяться…» «Первое, что испытываешь, когда космический корабль выходит на орбиту… – пишет В. И. Севастьянов, – это радость… эмоционально приподнятое, избыточно возбужденное состояние…» Согласно информационной теории эмоций, разрабатываемой П. В. Симоновым, отрицательные переживания возникают в условиях дефицита информации. Знак эмоции изменяется, когда объем поступающей информации начинает превышать прогностически необходимый. При преодолении барьера, отделяющего обычные условия жизни от экстремальных, человек оказывается избыточно информированным, что и вызывает положительное эмоциональное состояние. Однако эмоцию разрешения нельзя объяснить только информационными процессами, не учитывая физиологического механизма. В условиях угрозы для жизни человеку требуется подавить состояние страха. Это связано с интенсивностью основных нервных процессов – возбуждения и внутреннего торможения. В момент выхода человека из напряженной ситуации начинается расслабление. Когда интенсивность внутреннего торможения начинает спадать, берет перевес подкорка, получается положительная индукция, которая находит свое разрешение в эйфории, двигательном возбуждении. За то, что мы имеем здесь дело со снятием информационной неопределенности и эмоцией разрешения, говорит следующий факт. Через достаточно большое время нахождения в космосе, т. е. когда уже произошла переадаптация либо после окончания какой-либо деятельности, сопряженной с большой ответственностью или угрозой для жизни, можно вновь наблюдать эту реакцию. Так, американский астронавт М. Коллинз сделал в одиночестве 27 витков вокруг Луны. После успешной стыковки корабля с лунной кабиной, в которой находились Н. Армстронг и Э. Олдрин, у него возникло двигательное возбуждение. «Все это время, пока я “ловил” лунный модуль, – рассказывает Коллинз, – мне казалось, что я не выдержу напряжения. Когда же мы состыковались, меня обуяла прямо-таки нечеловеческая радость: я стал размахивать руками, зачем-то сорвал с себя привязанную к шее книжку с инструкциями и заданиями, а затем порвал ее». Состояние эмоционального разрешения на том или ином этапе деятельности летчиков, космонавтов, подводников необходимо учитывать в практике обеспечения полетов и выполнения других заданий. В тех случаях, когда эта психологическая закономерность не принимается во внимание, могут возникнуть нарушения в выполнении программы полета, экспериментов и т. д. Примером может служить эпизод, имевший место при полете космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». По программе полета после стыковки этих кораблей сразу же должен был начаться переход космонавтов Е. В. Хрунова и А. Е. Елисеева через открытый космос из одного корабля в другой. Процесс стыковки осуществлялся впервые, что обусловило высокую психическую напряженность членов экипажа. Когда стыковка произошла, у космонавтов возникло выраженное состояние эйфории, двигательного возбуждения, которое не позволило им сразу же начать запланированный переход. Е. В. Хрунов рассказывает: «Корабли плавно сближались. Расстояние все уменьшалось, а наше напряжение нарастало… Мягкий толчок, на приборной доске загорелся сигнал: “Есть стыковка”… От радости мы с Елисеевым как бы забыли, что нам надо через некоторое время покинуть… корабль и выходить в открытый космос». Командир корабля «Союз-4» В. А. Шаталов вспоминает об этом эпизоде: «Облегченно вздыхаю и во весь голос радостно кричу ребятам: “Добро пожаловать, Байкалы!” В ответ слышу какие-то радостные бессвязные возгласы… Перебивая друг друга, экипаж “Союза-5” бурно выражает свой восторг по поводу успешного выполнения первой части эксперимента… Я запросил экипаж о готовности к началу новой операции по переходу космонавтов из корабля в корабль. И тут оказалось, что ребята все еще никак не могут успокоиться после успешной стыковки». Из сказанного можно заключить, что во время преодоления психологического барьера при первом парашютном прыжке, полете в космос и других видах деятельности, сопряженной с угрозой для жизни, у человека возникают сложные, противоречивые психические состояния – от эмоционального напряжения, обусловливаемого чувствами ответственности, тревоги и страха на этапе старта, до радостного ликования и двигательного возбуждения после успешного завершения этой деятельности. 2. Пространственные иллюзии При исследовании функций восприятия у людей, впервые участвующих в полетах на самолетах с воспроизведением невесомости (по параболе Кеплера), был выявлен ряд нарушений, сводившихся к искажению пространственных отношений, величины и формы воспринимаемых предметов. Приведу самонаблюдение автора: «Во второй “горке” я должен был “плавать” в невесомости… Состояние невесомости наступило внезапно, и я, не успев опомниться, почувствовал, что полетел вверх, а затем в неопределенном направлении. Наступила полная дезориентация в пространстве. Затем я начал в какой-то степени разбираться в обстановке. Увидел пол и стенки помещения. Показалось, что оно быстро удлиняется. Иллюзия напоминала ощущение, будто смотришь в перевернутый бинокль… В это время старался за что-нибудь ухватиться. Но хотя предметы подо мною и по сторонам казались близко расположенными, я никак не мог дотянуться до них руками, что вызывало чувство крайнего эмоционального возбуждения». Известно, что материальным субстратом, обеспечивающим адекватное отражение реальной действительности, являются не отдельные корковые или подкорковые образования, а возникающие в процессе онтогенеза функциональные системы. Рассогласование системы, отражающей пространственные отношения, и обусловливает появление иллюзий. Тот факт, что резкое изменение афферентации[7] со стороны рецепторов[8] любого из названных анализаторов[9] может вызвать рассогласование функциональной системы восприятия пространства, подтверждается экспериментами. После погружения шести здоровых испытуемых в гипнотический сон мы делали им внушение, что они видят узкую улицу с высокими домами и человека, стоящего посередине улицы. После появления у них внушенных галлюцинаторных образов специальным методом раздражался их вестибулярный аппарат. Испытуемые, находясь в гипнотическом состоянии, комментировали изменения, происходящие с этими образами. Один из испытуемых увидел, как фигура человека «размножилась», а затем все они закружились хороводом вокруг него, причем «их лица были похожи друг на друга как близнецы». Остальные испытуемые также отметили различные изменения в воспринимаемых галлюцинаторных образах. Так, испытуемый К. при раздражении вестибулярного аппарата отметил, что фигура «человека» вытянулась и стала такой, «как в комнате смеха». О том, что в возникновении иллюзорного восприятия пространства в условиях невесомости определенную роль играет измененная афферентация со стороны рецепторов вестибулярного анализатора, говорят и наблюдения за испытуемыми с дефектом вестибулярного аппарата. При фиксации в креслах как с открытыми, так и с закрытыми глазами они не обнаруживали существенных различий между ощущениями во время горизонтального полета и при наступлении невесомости. Иллюзий при восприятии пространства у них отмечено не было. Об участии измененной афферентации со стороны тактильных и мышечных рецепторов в возникновении иллюзий свидетельствуют наблюдения за испытуемыми, которые в первых полетах с воспроизведением невесомости были фиксированы ремнями в кресле. После адаптации, когда невесомость не вызывала никаких особых ощущений, они исследовались в «плавательном бассейне», находясь в свободном состоянии. При этом у них возникали ярко выраженные эмоциональные переживания, а в ряде случаев – нарушения восприятия пространства. Со своеобразными иллюзиями столкнулись космонавты при выведении космических кораблей на орбиту. Вот как описывал подобные иллюзии В. Н. Волков: «Третья ступень выключилась очень плавно. Настолько мягко, что даже не заметил, когда это произошло… Кажется, что я вишу вниз головой… Такая иллюзия не только у меня. Анатолий Филипченко и Виктор Горбатко тоже испытали подобное чувство. Длилось оно буквально секунды». Иллюзию переворачивания при наступлении невесомости переживали как советские космонавты, так и американские астронавты. Причина «иллюзии переворачивания» была раскрыта Ф. Д. Горбовым. В момент, предшествующий невесомости, силы ускорения прижимают человека к креслу, и он подсознательно создает мышечную противоопору спинке кресла. Если при переходе к невесомости напряжение этих мышц не будет ослаблено, то с наступлением ее на несколько секунд возникнет закономерное, хотя и ложное, представление о полете на спине или вниз головой. При равномерном же и своевременном мышечном расслаблении иллюзорное представление не возникает. Что это именно так, подтверждают следующие наблюдения. При параболических полетах на самолетах невесомости всегда предшествует перегрузка, при пикирующих ее нет. При плавном введении самолета в пикирование у испытуемых появляется только чувство «парения», тогда как при параболическом полете довольно часто возникает иллюзия переворачивания, полета на спине. Аналогичные иллюзии возникают у испытуемых и в момент остановки центрифуги, а у летчиков – при выходе из пикирования, из разворота и т. д. Опорные реакции, направленные на сохранение позы при перегрузках, осуществляются без осознания двигательной деятельности, т. е. по принципу саморегуляции. Эта деятельность начинает осознаваться только в тех случаях, когда при том или ином закончившемся маневре космического корабля или самолета соответствующие изменения в рабочей позе человека не успевают адаптироваться к изменившимся условиям и задерживаются на более продолжительное время. Точнее говоря, осознается не сама мышечная деятельность, а афферентация («обратная связь»), отражающая «застрявший» мышечный эффект, который вступает в конфликт со зрительными восприятиями, что в ряде случаев вызывает тягостные переживания и насильственное изменение позы. Во время космических полетов выявилась еще одна форма иллюзий, характерных для этапа острых психических реакций входа. Спустя некоторое время после выведения корабля на орбиту у многих космонавтов появлялась иллюзия «зависания вниз головой». Так, в бортовом журнале во время полета на корабле «Восток-4» П. Р. Попович записал: «В состоянии невесомости испытал чувство зависания в положении тела головой вниз». Аналогичные иллюзии возникли у космонавтов Б. Б. Егорова и К. П. Феоктистова на третьем витке полета. При полете на корабле «Союз-6» Г. С. Шонин записал: «Почувствовал какой-то дискомфорт. Мне кажется, что я нахожусь вниз головой. Меняю положение, но неприятное ощущение не проходит». Аналогичные иллюзии имели место и при полетах американских астронавтов. В условиях невесомости происходит перераспределение крови в сосудистом русле: кровенаполнение нижних конечностей снижается, а кровоснабжение мозга увеличивается. Видимо, к этому рефлекторные механизмы саморегуляции не у всех космонавтов адаптированы, что и порождает описанные иллюзии. «Физическое ощущение такое, – рассказывал В. А. Шаталов, – будто кровь все время приливает к голове, как будто ты все время куда-то всплываешь. Теряешь ощущение верха и низа. И кажется, что тебе все время надо за что-то держаться, чтобы не всплыть. Но эти ощущения были только в первый период, когда еще не произошла адаптация организма к невесомости». Это ощущение испытывали и другие космонавты. Они сравнивали его с ощущениями нетренированного человека, которого на Земле перевернули вниз головой. Такое состояние было наиболее выражено на первых витках полета и продолжалось от нескольких часов до нескольких суток. Прилив крови к верхней части туловища ощущался не только субъективно, но и проявлялся в отечности лица. Космонавт Г. С. Шонин писал: «…начинаю присматриваться к Валерию Кубасову: “Неужели он ничего не чувствует?” Он поворачивает ко мне голову. Его лицо мало напоминает обычное Валерино, и я улыбнулся. – Прежде чем смеяться, посмотри в зеркало на себя, красавец! – пробурчал он. Плыву в орбитальный отсек к зеркалу. Смотрю и не узнаю себя: лицо как-то неестественно распухло, красные, налитые кровью глаза. Желание смотреться в зеркало сразу пропало. К исходу второго дня мы почувствовали себя лучше, лица наши приняли обычный вид… неприятные ощущения притупились». О том, что основную роль в возникновении иллюзии подвешенности вниз головой играет кровонаполнение верхних отделов туловища, особенно головы, свидетельствуют эксперименты А. С. Барера и Е. П. Тихомирова, проводившиеся с использованием профилактического вакуумного костюма на поворотном столе в условиях Земли и в невесомости. При включении насоса создается разрежение в нижней части костюма. В процессе декомпрессии[10] у многих испытуемых, находившихся в горизонтальном положении на Земле, появлялась иллюзия переворота тела вниз головой. Во второй серии экспериментов испытуемый переворачивался на столе вниз головой. При создании разрежения в костюме одновременно с улучшением самочувствия появилось ощущение начала поворота тела в горизонтальное положение. В третьей серии экспериментов, проводившихся уже в невесомости, испытуемому завязывали глаза и создавали разрежение в костюме. При этом ноги воспринимались как находящиеся внизу, а голова – вверху. Как отмечают авторы, здесь следует иметь в виду не только эффект смещения крови, но и перемещение органов брюшной и грудной полости в сторону таза. Таким образом, мы можем выделить следующие факторы возникновения иллюзий: измененная афферентация со стороны мышечной системы, со стороны вестибулярного анализатора, со стороны рецепторов сосудистого русла и внутренних органов. 3. Нарушения самосознания В наших экспериментах с воспроизведением невесомости на самолетах один из испытуемых, врач по профессии, так описал свои ощущения: «В начале воздействия невесомости в первой горке чувствовалась легкость во всем теле. Затем почувствовал какую-то неестественность в руках. Казалось, что руки стали удлиняться и увеличиваться в размерах. Четко понимал, что руки не могут увеличиваться, но эта иллюзия держалась на всем протяжении воздействия невесомости в первой горке. Во второй горке иллюзия повторилась. Но она полностью исчезла, когда начинал смотреть на руки. Когда закрывал глаза, то ощущал, что руки увеличиваются. При выполнении пробы на координацию ощущал какую-то смазанность в движениях. В третьей горке никаких иллюзий не было». Один из летчиков, который первый раз пилотировал самолет по параболе Кеплера, рассказывал, что «через 8-10 секунд в невесомости почувствовал, будто голова начинает распухать и увеличиваться в размерах. На 13-й секунде появилось впечатление медленного кручения тела в неопределенном направлении. Еще через 15 секунд стал терять пространственную ориентировку и поэтому вывел самолет из параболического режима». Аналогичные феномены имели место и во время космических полетов. Румынский космонавт Д. Прунариу после полета рассказывал: «Мне на орбите сначала показалось, что голова отделилась от туловища. Потом все стало на свои места». Приведенные самонаблюдения описывают соматопсихические нарушения «схемы тела». Впервые такие нарушения при изменении состояния весомости у лиц, пользующихся скоростным лифтом, описали Паркер и Шильдер. Они наблюдали, что при движении лифта вверх внезапная остановка вызывает у человека ощущение, будто тело, продолжая подниматься, внезапно стало легче, вышло из самого себя и стало двойным. Испытуемым казалось, что одно тело, «действительное», поднимается вверх, а другое тело, пустое, почти неощутимое, останавливается. Аналогичное состояние («отделение души от тела») пережил А. В. Филипченко при наступлении невесомости в момент выведения корабля на орбиту. Под «схемой тела» понимается отражение в нашем сознании основных качеств и способов функционирования как отдельных частей нашего тела и его органов, так и тела в целом. И. М. Сеченов в работе «Элементы мысли» показал, что в сумме органических ощущений, образующих «нижний пласт» самосознания личности (самочувствие, соматовосприятие «я»), большой удельный вес имеет афферентация от мышц, называемая проприоцепцией.[11] На основании клинических наблюдений советский психиатр В. А. Гиляровский пришел к выводу, что представление человека о том, в каком положении находятся его туловище, голова и конечности, возникает на основе ощущений, идущих от всех периферических частей двигательного анализатора (от мышц, сухожилий и суставных поверхностей). Большое значение для формирования «образа тела» имеют ощущения ребенка при прикосновении руками к собственному телу. Эта познавательная деятельность, часто наблюдаемая у маленьких детей, является первым зачатком осознания причины и следствия. В формировании «образа тела» с самого раннего возраста значительную роль играет зеркало. С его помощью человек делает наблюдения за самим собой, анализирует выражение своего лица. Зрительное удвоение личности с помощью зеркала служит тем самым одним из средств самопознания, идентификации человека с самим собой. Таким образом, «вживание в собственное тело» происходит в процессе развития ребенка в послеутробном периоде. Аналогично образованию функциональной системы, отражающей пространство, в процессе индивидуального развития образуется функциональная соматопсихическая система, отражающая собственное тело человека. В условиях невесомости в результате резко измененной афферентации со стороны ряда рецепторов происходит рассогласование отражающей тело функциональной системы, нарушение самосознания. Наша точка зрения полностью совпадает с представлениями И. П. Павлова. Разбирая 20 марта 1935 г. на одной из «Клинических сред» больную, у которой наблюдалось нарушение схемы тела, он дал этому следующее объяснение: «Правильное представление о моем теле получается от правильных раздражений. Если вы видите руку не такой, как она есть, а больше, то это тоже искажение. При помощи кинестетических, зрительных, слуховых ощущений получается представление о теле. Раз они (афферентные раздражители. – В.Л.) искажаются, то и представление искажается». После проведения экспериментов в условиях невесомости испытуемый Н. записал: «В первой горке при наступлении невесомости возникло чувстве проваливания, которое длилось секунд пять. А затем появилось необычное ощущение, стало казаться, что это не я сижу в кресле, пристегнутый ремнями, а кто-то другой. “Он” выполняет пробу на координографе, а я только наблюдаю за ним. Я понимал, что так не может быть, но тем не менее до конца режима это ощущение продолжало оставаться». Испытуемый М. (наблюдение Л. А. Китаева-Смыка) так охарактеризовал свои ощущения: «В первые секунды воздействия невесомости почувствовал, что самолет перевернулся и летит в перевернутом положении, а я завис вниз головой. Посмотрел в иллюминатор, увидел горизонт Земли, убедился в ложности своего ощущения. Через 5-10 секунд иллюзия исчезла. При наличии иллюзии и после ее исчезновения весь период невесомости испытывал неприятное, трудно характеризуемое ранее ощущение неестественности и беспомощности. Мне кажется, что изменилась не только обстановка в самолете, но и что-то во мне самом. Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, пробовал в невесомости писать, дотягиваться руками до различных предметов. Все это выполнял без особых затруднений. Тем не менее это чувство беспомощности, неуверенности не проходило и мучило меня». В приведенных наблюдениях испытуемые воспринимали изменившимися не только внешнюю среду, но и самих себя. Это самоощущение для них было незнакомым, непривычным и чуждым. В их переживаниях прослеживается утрата единства «Я» и существования. Испытуемому Н. казалось, что его действия совершаются как бы автоматически не им, а кем-то другим. В отличие от деперсонализации, наблюдаемой в клинике психических болезней, чувство отчуждения и психической беспомощности у испытуемых не сопровождалось бредовой интерпретацией. Логически рассуждая, они правильно оценивали свое состояние, хотя и не могли преодолеть при этом иллюзорность самовосприятия и эмоциональную тягостность этого состояния. Синдром психического отчуждения возникает при воздействии измененной афферентации не только в условиях невесомости, но и в обстановке сенсорной депривации,[12] острого дефицита впечатлений в сурдокамерах. Приведем ряд самонаблюдений: «Ловлю себя на мысли, что это не я, а кто-то другой все выполняет» (испытуемый Ч.); «И как будто со стороны и издали я увидел человека, который довольно вяло говорил: “Что-то дымом запахло, ребята”. Неужели это я? Потом этот человек поднялся с места, чтобы снять асбестовое одеяло» (Е. Терещенко). Согласно взглядам И. М. Сеченова, из чувственной формы самосознания ребенка в зрелом возрасте рождается сознание его «Я», дающее человеку возможность отделять все свое внутреннее от всего происходящего вовне, анализировать акты собственного сознания. Самосознание, по мнению С. С. Корсакова, выступает как «ощущение того, что происходит в моей душе, чувствование сменяющихся душевных состояний». Необходимо подчеркнуть, что способность к рефлексии, выделению своего «Я» возникает опосредованно, через познавательную деятельность ребенка совместно с другими людьми в том или ином коллективе. По мнению Е. В. Шороховой, самосознание, чувство «Я», возникает в результате того же процесса абстракции и обобщения, что и все остальные понятия. Особенность представления понятия «Я» заключается в том, что «обобщенное абстрагированное знание в нем непосредственно слито с переживаниями индивидуального бытия субъекта». С этим нельзя не согласиться. Ведь если бы восприятия, мысли и телесные ощущения переживались не как свои, а как ничейные восприятия и мысли, то человек не смог бы правильно ориентироваться в условиях внешнего мира и приспособляться к ним. Для объяснения расстройств самосознания предложен ряд гипотез. По мнению А. А. Меграбяна, в процессе онтогенетического развития у человека возникают так называемые гностические чувства, которые обобщают предшествующее знание предмета в конкретно-чувственной форме; обеспечивают чувство принадлежности психических процессов нашему «Я»; включают в себя эмоциональный тон соответствующей окраски и интенсивности. Физиологической основой интеграции гностических чувств, по его мнению, являются механизмы так называемого привычного автоматизма. По нашему мнению, измененная афферентация в условиях кратковременной невесомости вызывает как нарушение функционирования привычных автоматизмов, так и нарушение субординации между корковыми и подкорковыми компонентами аффективности, что и приводит к расстройствам самосознания. Причем в наших наблюдениях отчуждение собственных психических актов сочеталось с нарушениями восприятия пространства, что говорит о теснейшей связи сознания и самосознания. 4. Аффективные реакции Как показали исследования, у многих испытуемых в начале воздействия невесомости возникает ощущение проваливания, падения с «замиранием сердца и захватыванием дыхания», нередко сопровождаемое чувством страха. При этом, как правило, появляются спонтанные движения, в которых можно выделить тонический (поднимание вытянутых рук, подтягивание ног, выгибание назад туловища) и моторный (взмахивание руками и ногами, хватательные движения) компоненты. Потеря площади опоры в обычных условиях, как правило, сигнализирует о возможном ударе о землю при падении с высоты и, видимо, поэтому сопровождается чувством страха. Значение психомоторных реакций также понятно: тонические («лифтовые») реакции обеспечивают более безопасное приземление, а хватательные – поиск опоры. Обычно описанная психомоторная реакция у большинства испытуемых через три-пять секунд исчезает, и они начинают испытывать ощущение приятной легкости, парения, связанное с утратой веса. Приведу самонаблюдение, сделанное в первом полете: «По программе в первой горке я был фиксирован ремнями к креслу. С началом невесомости почувствовал, что проваливаюсь в бездну. Это ощущение, по моей оценке, длилось одну-две секунды. Перед глазами “поплыли” товарищи. Из-под моего кресла медленно поднялся парашют и завис в воздухе. Положение людей в безопорном состоянии было необычно: кто вверх ногами, кто как-то боком. Они двигались, кувыркались, принимали необычные позы, отталкивались от пола, потолка, стенок и быстро проплывали передо мной. Все казалось необычным и забавным. Достаточно хорошо теоретически зная ощущения в невесомости, я ожидал, что перенесу ее плохо, но получилось наоборот. Это вызвало чувство восторга, которое перешло в эйфорию». Однако не у всех испытуемых чувство падения, проваливания продолжается только три-пять секунд. У некоторых людей на протяжении всего периода воздействия кратковременной невесомости наблюдались выраженные нарушения восприятия пространства, сопровождавшиеся аффективными реакциями. В ужасе от «бездны», в которую их «бросили», потеряв представление о том, где они и что с ними, не в состоянии найти опору, они с криком размахивали руками. При этом отмечалось обильное выделение пота и значительное увеличение частоты пульса и дыхания. У некоторых происходило непроизвольное упускание мочи. Приводим наблюдение Л. А. Китаева-Смыка за испытуемым Е. С первых секунд невесомости появилось двигательное возбуждение, сопровождавшееся «лифтовыми» и «хватательными» реакциями, нечленораздельным криком и выражением чувства ужаса на лице. Эта реакция сохранялась на протяжении всего периода невесомости. После полета он рассказал: «Я не понимал, что наступило состояние невесомости. У меня внезапно возникло ощущение стремительного падения вниз; казалось, что все кругом рушится, разваливается и разлетается в стороны. Меня охватило чувство ужаса, и я не понимал, что вокруг меня происходит». О своих реакциях он ничего не помнил. При просмотре киноленты, на которую засняли его поведение, был крайне удивлен увиденным. Аффективные реакции в состоянии невесомости, сопровождавшиеся дереализацией, были сопоставлены нами с так называемым синдромом «гибели мира», встречающимся при некоторых нервно-психических заболеваниях. Так, у больного Ш. (наблюдение А. С. Шмарьяна) приступ начинался с головокружения. Затем возникало ощущение резкого падения, и больной, не успев за что-нибудь ухватиться, начинал испытывать «кувыркание, как будто переворачивался на холмах». В дальнейшем ему казалось, что его тело резко увеличивается в размерах и очертаниях, здания то увеличивались, то уменьшались, кругом темнело. Постройка валилась на постройку. Все происходило чрезвычайно быстро, «все валилось кругом и гибло». Больной при этом испытывал сильный страх, прощался с жизнью и кричал соседу: «Я не знаю, как ты, но я чувствую, что конец пришел, все на земле валится и рушится, наступила мировая катастрофа». В это время он видел, как вдали вырывались с корнем большие деревья, вся земля была похожа на бурлящий котел, как от извержения вулкана. Все люди гибли, и больной вместе с ними. Гибла вся природа, «как во время мировой катастрофы». Такое состояние длилось одну-две минуты. Как нам представляется, одним из механизмов, вызывающих эйфорию в условиях невесомости, является возбуждение подкорковых образований, которые, в свою очередь, активизируют кору полушарий головного мозга. При записи электроэнцефалограммы у испытуемых, впервые участвовавших в полетах с воспроизведением невесомости, нами отмечался процесс возбуждения в коре мозга. Появление в условиях невесомости у ряда испытуемых выраженных аффективных реакций обусловливается, по нашему мнению, рассогласованием функциональных систем психофизиологической организации, т. е. ломкой стереотипов, при воздействии резко измененной афферентации со стороны различных рецепторов. Чем резче по времени это рассогласование и чем менее подготовлен человек к воздействию этого психогенного фактора, тем более выражены психические нарушения. Объяснение аффективных реакций ломкой старого и установлением нового стереотипа в соответствии с изменившимися условиями полностью соответствует физиологическим представлениям И. П. Павлова о приспособительной роли эмоций. «Процессы установки стереотипа, довершения установки, поддержки стереотипа и нарушений его, – писал он, – и есть субъективно разнообразные положительные и отрицательные чувства…» С психологических позиций нарушение стереотипа означает появление недостатка в информации, необходимого для адекватного отражения и реагирования в изменившихся условиях. Согласно взглядам П. В. Симонова, отрицательные эмоции возникают каждый раз, когда удовлетворения потребности не происходит, иными словами, когда действия не достигают цели. Наши наблюдения и исследования показывают, что как только в условиях невесомости зрительный анализатор начинает обеспечивать потребность в ориентации в изменившихся условиях, так сразу же отрицательные эмоции (чувство проваливания, сопровождающееся страхом) сменяются положительными (эйфорией). Это подтверждают эксперименты Л. А. Китаева-Смыка, который в условиях невесомости выключал у испытуемых зрительные восприятия путем наложения повязки. Выключение зрения усиливало ощущение падения и чувство страха. Испытуемые, в нарушение инструкции, срывали повязки. 5. Дисгармония двигательной деятельности Как зарубежными, так и советскими исследователями в условиях кратковременной невесомости у испытуемых были обнаружены изменения в мышечном тонусе и нарушения координации движений. Так, при попадании в мишень карандашом, при вписывании крестиков по диагонали с открытыми и закрытыми глазами в условиях невесомости обнаружилась типичная ошибка: смещение попаданий вверх и вправо. Такое нарушение координации нашло следующее объяснение. На земле человек, поднимая руку, преодолевает с помощью мышечного усилия не только вес конечности, но и инерцию массы. В условиях же невесомости, когда «исчезает» вес, уже не требуется преодолевать вес конечности, а нужен только импульс для преодоления инерции массы руки. Однако в условиях невесомости срабатывает стереотип, выработавшийся на земле. Этот стереотип отчетливо проявлялся и во время космического полета. В. И. Севастьянов отмечает: «Наша земная привычка – перекидывание предметов в условиях поля притяжения – здесь, в невесомости, дает всегда ошибку в прицеливании вверх. Я пробовал много раз и заставил экспериментировать Петю (Климука. – В.Л.). Результат тот же: всегда ошибка вверх, предмет летит выше цели». В первые сутки полета космонавты отмечали ряд затруднений при движении, при самообслуживании, при работе с тумблерами, связанных с нарушением координации. Так, например, Е. В. Хрунов рассказывал: «Устроился удобно в кресле, закрыл глаза, стал подносить палец к носу. Палец прошел мимо». Значительное увеличение объемов жилых помещений космических летательных аппаратов повлекло за собой изменение способов перемещения. На этапе острых психических реакций это сопровождалось нарушениями в координации. В. И. Севастьянов пишет: «В невесомости затрачивается минимум энергии при перемещении в кабине – легкий толчок. Сначала движения при этом нерасчетливы и плохо координируются. Но, используя зрительный анализатор и опыт дозирования усилий на перемещение и на остановку, ты уже на вторые-третьи сутки полета приобретаешь навыки перемещения, достигаешь автоматизма движений и перестаешь тщательно контролировать свои движения, а первоначально это необходимо». Причем ноги становятся органом управления полетом («они… превращаются в два хвоста, потому что человек в космическом корабле не ходит, а плавает»). В дальнейшем ноги использовались космонавтами и для фиксации тела при выполнении тех или иных работ («…ноги непрерывно двигались, цеплялись за стенки кабины, удерживая тело в нужном положении. Ведь руки всегда были чем-то заняты»). Одним из наиболее тонких проявлений координации произвольных движений является письмо. О реализации этого навыка в условиях космического полета В. И. Севастьянов пишет: «…зафиксировав на коленях тетрадку и найдя локтю опору, вывожу в дневнике неровные буквы. Я не сразу научился писать в невесомости…» Специальные исследования почерка на протяжении полета у пяти космонавтов показали, что наибольшие перемены в координации движений при письме отмечаются в начале орбитального полета. Они характеризуются недостаточной согласованностью крупных движений, совершаемых главным образом предплечьем и всей кистью, с мелкими движениями кисти и пальцев. В дальнейшем происходит приспособление координации движений при письме к условиям невесомости и образование новых координационных связей. Таким образом, весь комплекс нарушений взаимодействия анализаторов, сопровождающийся эмоциональными реакциями, дереализацией, деперсонализацией и пространственными иллюзиями, проявляется не только в субъективных переживаниях и вегетативных реакциях, но и в расстройстве двигательной деятельности. Воздействие опасности на психическую деятельность 1. Готовность к опасностиПостоянное присутствие угрозы для жизни, обусловливаемой повышенным фактором риска погибнуть в результате несчастного случая, аварии или катастрофы, может вызывать различные психические реакции – от состояния тревожности до развития неврозов и психоза. По нашим наблюдениям, у подводников, летчиков и космонавтов вследствие сознания угрозы для жизни присутствует постоянная готовность к действиям, которая, однако, не всегда ими осознается. Такая готовность, сопровождаемая соответствующей психической напряженностью в адекватной форме, является закономерной реакцией на опасность. «Чувство опасности не должно исчезать, – считает В. И. Севастьянов, – оно включает психологические, в том числе эмоциональные, механизмы, активизирующие деятельность человека, обостряющие его мышление в случае аварии». С позиций физиологии высшей нервной деятельности это состояние готовности к действию, которое может иметь ту или иную степень, А. А. Ухтомский квалифицировал как «оперативный покой». Готовность к действию определяется той «психологической установкой», которую имеет человек в данный момент. Высокая степень готовности к действию является необходимым условием надежности человека – важнейшего звена в системе «человек-машина» – при управлении самолетом, космическим кораблем или подводной лодкой. «Самый страшный враг летчика – неожиданность», – замечает летчик-испытатель М. Л. Галлай. Неожиданность в форме отказов, аварий и других непредвиденных обстоятельств постоянно подстерегает подводников, летчиков и космонавтов. Так, во время полета к Луне космического корабля «Аполлон-10» на селеноцентрической орбите основной блок корабля и лунный спускаемый аппарат разделились. И вдруг спускаемый аппарат начал вращаться вдоль продольной оси. У астронавтов возникла иллюзия, что они стремительно падают на Луну. Сернан от неожиданности растерялся. Только находчивость и мужество Стаффорда помогли избежать катастрофы. Он быстро включил ручное управление и стабилизировал спускаемый аппарат. Эта реакция была обеспечена высокой степенью готовности к действию. Одним из условий переадаптации человека к обстановке, связанной с угрозой для жизни, является способность поддерживать высокую степень готовности к моментальному действию при возникновении различных неожиданностей. Как будет показано, неспособность находиться в постоянной готовности к экстренным действиям имеет следствием неадекватные реакции, которые нередко приводят к авариям и катастрофам. Условием переадаптации к угрозе для жизни является также уверенность человека в надежности технических систем, средств спасения и в своих действиях при аварийных ситуациях. Ранее уже приводилось высказывание Г. Т. Берегового о значении профессиональной подготовленности для возникновения чувства уверенности в условиях повышенного риска. На важное значение знания техники, отработки навыков действий во время особых случаев полета указывали многие космонавты. Отвечая на вопрос, как сказывается на психологическом состоянии космонавтов, на их работоспособности опасность полета, В. И. Севастьянов заявил: «Мы знаем об опасностях, о них не следует забывать в полете, но нужно иметь средства для предупреждения и отражения этих опасностей, нужно сохранять уверенность в эффективности этих средств и уверенность в себе». Специальный психологический анализ форм поведения летчиков в аварийных ситуациях с благополучным исходом показал, что они не рассматривали аварийную ситуацию как нечто непоправимое, а относились к ней как к преодолимой случайности. Готовность к опасности и адекватность поведения в условиях аварии состоят не только в том, что летчик хладнокровно встречает опасность, но и в том, что у него вырабатывается способность к оперативным, «сокращенным» приемам опознания характера отказа в «машине» и мгновенному извлечению из памяти нужной информации для принятия решения. Авария – это чрезвычайное происшествие, которое характеризуется внезапностью. Авария требует от человека исключительно быстрой перестройки психической деятельности на фоне возникшего эмоционального напряжения. Она предъявляет самые высокие требования к эмоционально-волевым качествам личности, к основным нервным процессам. Характерно самонаблюдение Н. Теницкого, у которого во время перехвата воздушной цели в сложных метеорологических условиях произошло самовыключение двигателей. Приводим магнитофонную запись его рассказа: «Включаю форсаж. Внимание по-прежнему на цели. Быстрый взгляд на табло силовых установок; система форсажа сработала нормально. Снова слышу резкий хлопок и мгновенно ощущаю энергичное торможение самолета: тянет вперед от спинки сиденья. Машинально снимаю секторы управления двигателями с положения “форсаж”. Уже, кажется, сознаю, что двигатели остановились, но все равно пытаюсь дать газ и не выпускаю из поля зрения цель. Через какое-то время до сознания доходит: “Поставь двигатели на стоп”. Перевожу взгляд на приборы, оцениваю обстановку. Мелькает мысль: “Двигатели не запускаются… Надо катапультироваться”. Перебарываю неприятное чувство. Начинаю действовать по инструкции. Двигатели запускаются». Как видим, перед нами одна из таких ситуаций, когда летчик переключается в короткий промежуток времени с одного вида деятельности (перехват воздушной цели) на другой (выяснение причин отказа двигателей). В этом самонаблюдении также прослеживается, как оценка аварийной ситуации сопровождается естественно возникшей тревогой, которая подавляется интеллектуально-волевым усилием летчика. Что касается космонавтов, то у них на ответственных участках полета проводится телеметрическая запись ряда физиологических функций. Телеметрия позволила зарегистрировать вегетативные реакции у космонавтов во время аварий на космических кораблях. Рассмотрим более подробно некоторые из этих случаев. Во время полета корабля «Восход-2» на 16-м витке при возвращении на Землю произошел отказ автоматики. П. И. Беляев определил причину отказа, которая заключалась в непрохождении команд, оценил обстановку и принял решение произвести ручной спуск. Затем он запросил разрешение у Центра управления полетом на проведение посадки по ручному циклу. В момент отказа автоматики и диагностики аварии у командира корабля П. И. Беляева наблюдалось резкое повышение частоты пульса – 115, в то время как частота пульса у А. А. Леонова была в пределах 68–72 ударов в минуту. В 10 часов командиру было дано разрешение на посадку корабля по ручному циклу. Пульс у Беляева стал резко снижаться и к 10 часам 8 минутам достиг 80 ударов в минуту. Снижение эмоциональной напряженности, видимо, можно объяснить снятием информационной неопределенности. В момент ручной ориентации частота пульса у командира вновь повысилась и достигла 100 ударов в минуту. Следует сказать, что П. И. Беляеву первому из советских космонавтов пришлось сажать корабль в ручном режиме. Эта операция весьма ответственна. Включение тормозной двигательной установки при неправильно сориентированном корабле может перевести его на более высокую орбиту, с которой невозможно своевременно вернуться на Землю. После ориентации корабля частота сердечных сокращений упала, но затем вновь резко возросла и достигла максимума (129 ударов) в момент включения тормозной двигательной установки. И это не случайно. Во-первых, очень важно правильно рассчитать включение тормозного двигателя. При запаздывании корабль мог бы приводниться в Северном Ледовитом океане, при раннем включении – за пределами родины. Во-вторых, у космонавтов не было полной уверенности в том, что пройдет команда на включение двигателя. При непрохождении команды корабль остался бы на орбите. С включением тормозной двигательной установки у командира наступило эмоциональное «разрешение», и пульс начал резко снижаться. Причем это происходило в тот момент, когда стали нарастать перегрузки. Если пульс у Беляева начал снижаться, то у А. А. Леонова в связи с нарастанием перегрузок он стал увеличиваться. Не менее показательны в этом плане наблюдения за астронавтами при аварии на корабле «Аполлон-13». У командира корабля Дж. Ловелла относительный прирост частоты пульса в момент аварии был значительно сильнее выражен, чем у пилота лунной кабины Ф. Хейса и пилота основного блока Дж. Суиджерта. Как показывают имеющиеся данные, у многих летчиков и космонавтов в условиях аварии активизируются психические процессы, а эмоции носят стенический характер, что мы считаем еще одним условием переадаптации к ситуациям, в которых на человека воздействует угроза для жизни. Б. М. Теплов считал, что есть люди, для которых опасность является жизненной потребностью, которые стремятся к ней и в борьбе с ней находят величайшую радость и смысл жизни. «Если бы опасность неизбежно вызывала отрицательную и мучительную эмоцию страха, – писал он – то боевая обстановка, связанная с величайшей опасностью, не могла бы содержать чего-то влекущего к себе, притягательного, дающего “упоение” и “неизъяснимые наслаждения”». Стенические эмоции как ответ на опасность невозможно объяснить с позиций бихевиоризма и других направлений психологии, не учитывающих социальную сущность человека. При анализе биографий и мемуаров летчиков-испытателей и космонавтов четко прослеживается, с одной стороны, что для многих из них в детстве и юности идеалом были известные летчики. Ограничимся двумя примерами из автобиографий. В. А. Шаталов: «Я восторгался нашими славными авиаторами, но больше всех – Валерием Павловичем Чкаловым». Г. С. Шонин: «…моими маяками были и Валерий Чкалов, который нравился мне за неистовство в полетах, и воздушный романтик и философ Сент-Экзюпери, одинаково любивший и небо, и землю, и людей, живущих на ней…» С другой стороны, в этих автобиографиях и мемуарах отмечается тяга к играм, а затем и к спорту, в которых явно присутствует элемент преодоления страха (прыжки с высоты в воду, в сугроб, парашютный спорт, планеризм и др.). Анализ мемуаров также показывает, что такие качества, как высокая степень готовности к действию во время полета, уверенность в материальной части и в своих действиях, активизация мышления во время аварий, обусловливаются целеустремленностью, увлеченностью, любовью к своей профессии, вызывающей переживания наслаждения, радости. Эти качества приобрели устойчивый характер во время профессиональной подготовки на тренажерах, парашютных прыжков, полетов на реактивных самолетах и при других стрессовых воздействиях. В состав экипажей космических кораблей входят не только лица, имеющие большой профессиональный опыт, но инженеры и научные работники, которые во время полета выполняют конкретные задачи. Не от всех членов экипажей подводных лодок зависит их безопасность. Вот почему члены экипажей летательных аппаратов, кораблей и экспедиций должны быть уверены, что их командир не допустит ни малейшей ошибки, не растеряется в сложных обстоятельствах. Уверенность в правильности действий командира, его авторитет избавляют людей в условиях угрозы для жизни от мучительных размышлений: «А правильно ли принято решение, не допущена ли ошибка, которая повлечет за собой роковые последствия?» Психологическую сущность авторитета руководителя в экспедиционных условиях можно понять из диалога Р. Амундсена на одном из приемов после возвращения с Южного полюса. Когда его спросили: «Какие вы, капитан, предусматривали наказания за невыполнение приказа во время похода к полюсу?», Амундсен ответил: «Я не знаю этих слов, не представляю, что они значат. Я подбирал себе таких людей, что мне никогда не приходилось об этом задумываться… Каждое мое пожелание было для них приказом». Тогда ему задали второй вопрос: «А если бы вы кому-нибудь из них приказали прыгнуть в пропасть?» – «Он наверняка бы рассмеялся, приняв это за глупую шутку», – ответил Амундсен. А через некоторое время добавил: «А впрочем, может быть, и прыгнул бы. Он посчитал бы, что так нужно. Эти люди безгранично доверяли мне». Врач X. Свердруп, который провел на судне «Мод» под командованием Р. Амундсена три года в условиях Арктики, писал: «Мы всем сердцем любили своего руководителя, охотно ему подчинялись и прилагали все усилия, чтобы никогда и ничем не огорчить нашего капитана… и были готовы идти за ним хоть в самый ад… Все (члены экипажа. – В.Л.), как один, подчеркивали, что с ним они чувствовали себя в безопасности». Автор этой книги участвовал в испытаниях ряда новых проектов подводных лодок. Психологическое состояние своей защищенности, чувство, что с членами экипажа ничего не случится, подводники испытывали только тогда, когда кораблем командовал командир, пользующийся доверием и непререкаемым авторитетом. Наши наблюдения показывают, что при твердой уверенности в правильности действий командира все усилия членов экипажа направлены на творческое выполнение отданных им распоряжений, сомнения в правильности этих распоряжений практически отсутствуют. Подтверждением сказанного могут служить наблюдения за поведением космонавтов и астронавтов во время аварии. Как уже отмечалось, у членов космических кораблей по сравнению с командирами эмоциональная напряженность, судя по вегетативным реакциям, менее выражена. Не исключая индивидуальных особенностей, мы склонны объяснить этот феномен большей ответственностью командиров за исход аварии и более спокойным реагированием остальных членов экипажа, уверенных в действиях своих командиров. После полета А. А. Леонов рассказывал: «Я знал, что Павлу Ивановичу не раз приходилось выходить из сложных аварийных ситуаций, когда он летал на истребителе на Дальнем Востоке и воевал. Поэтому я не волновался». Одной из причин назначения командирами космических кораблей людей, бывших в прошлом летчиками-истребителями или испытателями, является то, что они, сталкиваясь в своей предшествующей работе с различными аварийными ситуациями, проявляли мужество и находчивость. Таким образом, если условием психической переадаптации для командиров кораблей служит уверенность в материальной части и в своих действиях, то для остальных членов экипажа – уверенность в материальной части и действиях командира во время непредвиденных обстоятельств. Как уже говорилось, большинство летчиков, космонавтов и подводников в условиях угрозы для жизни действуют уверенно, в соответствии со складывающейся обстановкой, испытывая при этом стенические эмоции. В таком поведении проявляются личные моральные качества личности, ее установки, мобилизующие человека на адекватное отражение постоянно меняющихся условий и реализацию принятых решений. Однако роль морально-психологического фактора и профессиональной подготовки при работе человека в стрессовых ситуациях не следует переоценивать. Необходимо четко представлять себе, что нагрузка, которая ложится на психику личности при угрозе для жизни, – это нагрузка на функциональные нервные образования, а они у каждого человека имеют свой диапазон реактивности и предел работоспособности. При выходе за эти рамки может наступить этап неустойчивой психической деятельности. 2. Аффективные реакции С полной определенностью можно утверждать, что не каждый человек в условиях угрозы для жизни способен работать устойчиво и продуктивно. По данным Американской психологической ассоциации, во время второй мировой войны только 25 % личного состава подразделений активно и адекватно действовало на передовой во время боя. О потере работоспособности у операторов в условиях угрозы для жизни Р. Нордланд писал: «В момент большого нервного напряжения, находясь под угрозой нападения, способность оператора рассуждать нарушалась. В результате возникла масса крупных ошибок, которые конструктор не мог ни предусмотреть, ни объяснить». Р. Р. Гринкер и Г. Р. Спигел среди пилотов, участвовавших в воздушных боях, выделили две группы по индивидуальной сопротивляемости угрозе для жизни. В первую группу вошли пилоты, у которых даже незначительные стрессовые воздействия вызывали нарушения психических функций. У второй группы такие нарушения возникали лишь при длительном действии чрезвычайно сильных стрессовых факторов. Как показывают наблюдения и исследования, в условиях угрозы для жизни эмоциональная неустойчивость может развиться и у тех лиц, у которых в предшествующей деятельности не отмечалась психическая напряженность. Состояние психической неустойчивости, граничащее с неврозом, возникает в результате астенизации нервной системы, вызываемой нарушением режима труда и отдыха, различными потрясениями, травмирующими психику, и т. д. Особенно отчетливо психическая неустойчивость в условиях угрозы для жизни выявляется в аварийной обстановке. Четко выделяются две формы таких реакций: состояние ажитации и кратковременный ступор. При ажитированном состоянии в ответ на раздражители, сигнализирующие об опасности для жизни, на первый план выступает беспокойство, тревога. Возбуждение выражается главным образом в суетливости, в возможности осуществлять только простые автоматизированные акты под влиянием попавших в поле зрения случайных раздражителей. Мыслительные процессы при этом замедленны. Способность понимания сложных отношений между явлениями, требующая суждений и умозаключений, нарушается. У человека возникает чувство пустоты в голове, отмечается отсутствие мыслей. Появляются вегетативные нарушения в виде бледности, учащенного сердцебиения, поверхностного дыхания, потливости, дрожания рук и др. Состояние ажитации в условиях аварийной ситуации среди летчиков, дежурных щитов управления и операторов других «острых» профессий расценивается как растерянность. При моделировании аварийной ситуации во время полета отказ вводится инструктором из задней кабины. Возникновение «аварийной ситуации» сразу же рождает у летчика вопрос: «Что случилось?» В этот момент наблюдалось учащение пульса до 160 ударов в минуту, по характеру психической реакции на аварийную обстановку можно выделить группу летчиков, испытывающих растерянность в данной ситуации. И хотя реакции на отказ у каждого из них различны, их объединяет то, что они с трудом анализируют наличную информацию, совершают ошибочные действия. В ряде случаев ошибочные действия усугубляют аварийную обстановку. Так, при внезапном отказе в горизонтальном полете одного двигателя летчик, вместо того чтобы выключить отказавший двигатель, выключил другой, работающий, в результате чего оба двигателя самолета оказались выключенными. Другой летчик при возникновении пожара на левой плоскости самолета, вместо того чтобы сбить пламя глубоким виражом или скольжением вправо с одновременным применением противопожарных средств, выполнил вираж влево, т. е. в сторону возникшего пожара, и пламя охватило весь фюзеляж. В состоянии ажитации нарушается восприятие времени. Примером может служить наблюдение Б. С. Алякринского. Во время полета по маршруту загорелся самолет. В составе экипажа кроме пилота находились еще два человека. Исход создавшейся ситуации: летчик катапультировался, остальные члены экипажа погибли, хотя в их распоряжении также были катапультные установки. При расследовании катастрофы выяснилось, что пилот (командир корабля) перед катапультированием подал команду оставить самолет, однако, по его словам, не получил ответа, хотя ждал несколько минут. Фактически же промежуток времени между командой и катапультированием составлял лишь несколько секунд. Остальные члены экипажа за этот промежуток времени не смогли подготовиться к катапультированию, так как для этого на их самолете требовалось провести несколько рабочих операций. Переоценка длительности временного интервала здесь совершенно очевидна. Доли секунды субъективно были восприняты как минуты, что и привело к гибели двух членов экипажа. Таким образом, для состояния ажитации в условиях аварии наиболее типична неадекватность восприятия окружающей действительности, в частности нарушение оценки временных интервалов, что вызывает затруднение понимания ситуации в целом. Нарушаются также процесс выбора действий, логичность и последовательность мышления: в результате создаются условия для «высвобождения» стереотипных, автоматизированных действий, не соответствующих сложившейся ситуации. Кратковременный ступор в условиях угрозы для жизни характеризуется внезапным оцепенением, застыванием на месте в той позе, в которой человек находился в момент получения известия об аварии, стихийном бедствии и т. д.; при этом сохраняется интеллектуальная деятельность. Приведем самонаблюдение летчика, у которого во время полета произошло самовыключение обоих двигателей: «Остановка двигателей сопровождалась сильным хлопком. Этот звук вызвал ощущение, что самолет вот-вот взорвется. Я весь сжался, ноги одеревенели. Вынужденная посадка в данном районе полетов была невозможна, и я решил катапультироваться. Но меня охватило оцепенение, так что я не мог перенести ноги на катапультное сиденье. Когда рассеялась пыль от возникшей отрицательной перегрузки, я увидел, что снижаюсь без крена под углом 45–50 градусов. За это время я потерял 1500 м. Придя в себя на высоте 8000 м, я произвел запуск двигателей и благополучно произвел посадку на свой аэродром». Другой летчик, выполняя полет на высоте 8000 м, услышал резкий хлопок. Этот звук ассоциировался у него со взрывом. Оценка ситуации как взрыва привела его в состояние кратковременного ступора: некоторое время он не мог управлять самолетом из-за наступившего оцепенения. За это время самолет потерял 3000 м высоты. Осознав, что звук вызван отказом двигателя (помпаж), летчик пришел в нормальное состояние и начал действовать в соответствии с ситуацией (наблюдения В. А. Пономаренко, Н. Д. Заваловой). Согласно Л. С. Выготскому, к возникновению аффекта (ажитации или ступора) предрасполагает остроконфликтная ситуация, в которой человек для спасения своей жизни должен действовать, но в то же время он не знает, как действовать. Л. С. Выготский приводит пример с двумя путниками, один из которых, зная об опасности на дороге, заранее готовится, вооружается. Он может волноваться в пути, но при встрече с опасной ситуацией у него не возникает состояние аффекта, так как он готов к адекватному реагированию. Совершенно иначе ведет себя второй путник, не знающий об опасности. При нападении у него может возникнуть состояние аффекта, так как он не готов адекватно действовать в этой ситуации. Как видим, одной из причин развития аффекта является неподготовленность к действиям в непредвиденных ситуациях. Другой причиной возникновения аффекта выступает неожиданность, которая чаще всего вызывает аффективные реакции при отсутствии готовности к действию, о чем уже говорилось. П. К. Анохиным была выдвинута концепция об «опережающем отражении». Он показал, что уже перед началом выполнения действия формируется аппарат, названный им «акцептором действия». В процессе психической деятельности этот аппарат принимает обратную афферентацию, информацию о ходе выполнения действия, и сопоставляет ее с целью данного действия. В зависимости от результата этого сопоставления может начаться формирование нового, более точного действия. Когда в результате афферентного синтеза намерения к действию уже сформированы и начинают реализовываться, появление неожиданных, непредвиденных раздражителей наносит «удар» по системе предвидения, который даже у людей с достаточно высокой подготовленностью может вызвать аффективное состояние. Здесь важно, на каком моменте реализации плана действия произошел «сбой». Приведем пример. 8 декабря 1972 г. «Боинг-707» с пассажирами на борту потерпел катастрофу. Очевидцы свидетельствовали, что самолет шел на посадку, но примерно за 2 км от взлетно-посадочной полосы его моторы неожиданно взревели. Самолет задрал нос и примерно с высоты 150 м упал на жилые дома в районе аэропорта и взорвался. Расследование показало, что, идя на посадку, летчик ввел в действие интерцепторы – металлические пластины, выдвигаемые из крыльев самолета поперек воздушного потока для уменьшения скорости. Но взлетно-посадочная полоса неожиданно оказалась занятой. Руководитель полетов в резкой форме дал приказ пойти на второй круг. Летчик, не ожидая такого распоряжения, растерялся, вывел двигатели на полную мощность, но забыл убрать интерцепторы. Это и явилось причиной катастрофы. О значении нанесения «удара» в акцептор действия в неожиданный момент свидетельствует самонаблюдение автора: «Океанская подводная лодка после длительного похода всплыла на поверхность и возвращалась на свою базу. Казалось, что все напряжение, связанное с длительным походом, осталось позади. На ходовой мостик подышать свежим воздухом по очереди поднимались офицеры и матросы. Дошла очередь и до меня. Когда я поднялся, был тихий вечер. И в этой тишине, как гром среди ясного неба, раздался крик сигнальщика: “Мина по носу!” “Право на борт!” – скомандовал вахтенный офицер. Дальше я ничего не помню. Помню только, что как завороженный стоял на мостике и смотрел на проплывающую рядом с бортом мину. Очнулся в тот момент, когда кто-то из товарищей положил мне на плечо руку». После удалось выяснить, что примерно аналогичное состояние испытали все, кто вышел на мостик просто отдохнуть. Командир корабля, вахтенный офицер и сигнальшик такого состояния не испытывали. Подтверждение того, что для возникновения подобных психических состояний существенное значение имеет неожиданный «удар» в акцептор действия, могут служить модельные эксперименты Ф. Д. Горбова. На различных этапах работы с черно-красной таблицей он воздействовал на испытуемого «речевой помехой». Эксперименты показали, что на ранних этапах формирования ответа словесный образ может выступать как подсказка, поддержка. Но когда ответ уже сформировался, введение словесного образа-помехи производит неожиданно сильное сбивающее действие, как бы затормаживая деятельность. В этот момент у испытуемого наблюдается «путаница мыслей», неясность сознания, персеверация[13] и эмоциональное напряжение. Наличие конфликтной ситуации является обязательным, но недостаточным условием для возникновения ажитации или кратковременного ступора. Одна и та же ситуация при равной неподготовленности людей или неожиданности для них у одного человека вызывает аффект, у другого – не нарушает психической деятельности. Вопрос о том, какие факторы предрасполагают к аффектам, еще недостаточно изучен, однако некоторые из этих факторов выявлены определенно и достоверно. К их числу в первую очередь следует отнести комплекс врожденных свойств нервной системы (тип высшей нервной деятельности). В статье «Экспериментальная патология высшей нервной деятельности» И. П. Павлов прямо указывал, что легкость получения в экспериментах болезненного состояния высшей нервной системы находится в прямой зависимости от типа нервной системы. «Что же касается слабого типа, – писал он, – то здесь очень легко всеми нашими способами сделать животных ненормальными». К. М. Гуревич и В. Ф. Матвеев пришли к выводу, что ошибочные воздействия или бездействие операторов энергосистем как результат аффекта в аварийных ситуациях связаны с индивидуальными особенностями нервной системы. Лица, не обладающие достаточной силой процесса возбуждения, и лица с преобладанием тормозного процесса над процессом возбуждения, вероятнее всего, окажутся несостоятельными в ответственных и сложных ситуациях. Как показывают наблюдения и исследования, переутомление, нарушение ритма сна и бодрствования, астенизация способствуют возникновению аффекта. Таким образом, устойчивые индивидуально-психологические особенности личности (тип высшей нервной системы) и временные функциональные психофизиологические состояния (астенизация и др.) способствуют развитию аффективных реакций в условиях аварийной ситуации. При неблагоприятных обстоятельствах кратковременные аффективные реакции могут приводить к глубоким психическим нарушениям, что означает переход в новое качество – болезнь. Заключение Итак, стержневой проблемой экстремальных условий является адаптация. Психическая переадаптация в экстремальных условиях, дезадаптация и реадаптация к обычным условиям жизни подчиняются закономерному чередованию этапов, представленных на схеме. 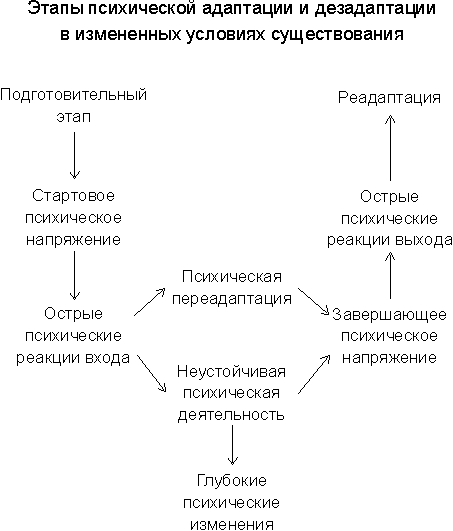 Анализ этапов психической переадаптации, реадаптации и дезадаптации при воздействии психогенных факторов позволил выявить следующее. Независимо от того, предстоит ли человеку пройти испытание нервно-психической устойчивости в условиях сурдокамеры, или выполнить парашютный прыжок, или осуществить полет в космос и т. д., - во всех случаях четко выделяется «подготовительный этап». На этом этапе человек собирает сведения, позволяющие составить представление об экстремальных условиях, уясняет задачи, которые ему предстоит решать в этих условиях, овладевает профессиональными навыками, «вживается» в ролевые функции, отрабатывает навыки, обеспечивающие совместную операторскую деятельность, и устанавливает систему отношений с другими участниками группы. Чем ближе по времени человек приближается к барьеру, отделяющему обычные условия жизни от экстремальных («этап стартового психического напряжения»), и к другому барьеру, который отделяет необычные условия существования от обычных условий жизни («этап завершающего психического напряжения»), тем сильнее психическая напряженность, выражающаяся в тягостных переживаниях, в субъективном замедлении течения времени, в нарушениях сна и вегетативных изменениях. В числе причин нарастания психической напряженности при приближении к указанным барьерам четко прослеживаются информационная неопределенность, предвидение возможных аварийных ситуаций и умственное проигрывание соответствующих действий при их возникновении. При преодолении барьера, отделяющего обычные условия жизни от измененных, барьера, отделяющего измененные условия от обычных, возникают положительные эмоциональные переживания (эйфория, гипоманиакальность), сопровождающиеся повышенной двигательной активностью. В появлении этих состояний участвуют как психологические, так и физиологические механизмы. Нами показано, что при преодолении указанных барьеров устраняется информационная неопределенность и человек оказывается избыточно информированным. На рубеже преодолеваемого психологического барьера человек находится в состоянии психического напряжения, обусловливаемого необходимостью волевым усилием подавлять подкорковые эмоции. Преодоление психологического барьера, особенно сопряженного с угрозой для жизни, влечет за собой состояние эмоционального разрешения, в основе которого лежит снятие тормозящего влияния коры на подкорку и индуцирование в ней возбуждения. При каждом повторном преодолении психологического барьера эмоциональные реакции сглаживаются и стенизируются. Это обусловливается достаточно полной информационной обеспеченностью, уверенностью в материальной части, в средствах спасения и в правильности своих действий при возникновении аварийных ситуаций. Исследования советских физиологов и психологов показали, что успешная психическая деятельность обеспечивается не отдельными корковыми образованиями и нижележащими подкорковыми структурами, а функциональными объединениями («функциональными органами», «ансамблями»). На этапах острых психических реакций «входа» и «выхода» при воздействии измененной афферентации возникают дереализационные феномены, сопровождающиеся выраженными эмоциональными реакциями. Нарушается также координация движения. В основе этих нарушений лежит рассогласование функциональных систем психофизиологической организации человека, сложившихся в процессе онтогенеза или длительного пребывания в измененных условиях существования. Этап острых психических реакций входа сменяется этапом психической переадаптации, критериями которой служит устойчивая система взаимоотношений в изолированной группе. Одной из особенностей этапа психической переадаптации является формирование новых функциональных систем в центральной нервной системе, позволяющих адекватно отражать реальную действительность в необычных условиях жизни. Другой особенностью этого этапа является актуализация необходимых потребностей и выработка защитных механизмов, обеспечивающих реакции на воздействие психогенных факторов. По своим психофизиологическим механизмам этап переадаптации имеет много общего с этапом реадаптации, восстановления процессов отражения, системы отношений и координации движений, адекватных для обычных условий жизни. И чем длительнее срок пребывания в измененных условиях, тем труднее и дольше происходит реадаптация к обычным условиям жизни. Хотя каждый из рассмотренных нами этапов имеет свою мотивационную обусловленность, он подчинен общей «стратегической» цели конкретной деятельности – выполнить полетное задание, успешно провести экспедицию, поход, плавание или эксперимент. Это соответствует как психологическим теориям (временная перспектива К. Левина; перспективное устремление личности А. С. Макаренко; сверхзадача и сквозное действие К. С. Станиславского), так и психофизиологическим представлениям (рефлекс цели И. П. Павлова; учение об акцепторе действия П. К. Анохина). При жестком и длительном воздействии психогенных факторов, а также при отсутствии мер профилактики этап психической переадаптации сменяется этапом неустойчивой психической деятельности. На этом этапе появляется ряд необычных психических состояний, характеризуемых эмоциональной лабильностью и нарушениями ритма сна и бодрствования. При рассмотрении необычных психических состояний возникает вопрос: относятся ли они к психологической норме или же к патологии? Ответ на этот вопрос кажется простым лишь на первый взгляд. Так, если мы попытаемся оценить всевозможные необычные состояния, возникающие на этапах переадаптации, дезадаптации и реадаптации, пользуясь критериями психологической нормы, достаточно полно разработанными Г. К. Ушаковым, то неизбежно придем к выводу, что имеем дело с психопатологией. Однако одно дело, например, оценить необычные психические состояния в условиях сенсорной депривации у добровольца-испытуемого как развившиеся галлюцинации, что довольно часто имеет место в зарубежных исследованиях, и совершенно иное, когда такая же оценка дается необычным психическим состояниям летчика-космонавта при испытании нервно-психической устойчивости в сурдокамере или во время полета. Вот почему проблема психической нормологии столь актуальна для измененных условий существования и нуждается в обсуждении при подведении итогов книги. Как было нами показано, сразу же при вхождении человека в измененные условия существования и при возвращении в обычные условия жизни происходит «ломка» функциональных систем психофизиологической организации, сложившихся в онтогенезе или при длительном пребывании в измененных условиях. Эта ломка сопровождается появлением необычных психических состояний, нарушениях познавательных процессов, эмоционального регулирования и двигательной деятельности. С нашей точки зрения, необычные психические состояния и нарушения следует рассматривать как закономерные кризисные реакции в границах психологической нормы, причем эти реакции должны учитываться при освоении измененных условий существования. Необычные психические состояния, возникающие на этапах психической переадаптации и реадаптации (эйдетизм, экстериоризационные реакции, аутизация, психологическая открытость и др.), мы также относим к нормальным компенсаторным, защитным психофизиологическим механизмам, характерным для измененных условий существования. «Психическая норма», являющаяся в медицине синонимом «здоровья», укладывается между верхней и нижней границами, в пределах которых могут происходить различные сдвиги, не влекущие за собой качественного изменения в морфологической структуре, физиологическом и психологическом состоянии человека. При работе регуляторных механизмов на пределе адаптационного оптимума на этапе неустойчивой психической деятельности возникают необычные психические феномены, которые, оставаясь в границах психологической нормы, в то же время расцениваются нами как препатологические. Потребность в разграничении нормальных по своей сути необычных психических состояний, возникающих в процессе адаптации личности, но напоминающих по своей феноменологической картине симптомы и синдромы неврозов и психозов, нашла свое отражение у психиатра прошлого века Крафта-Эбинга в характерном и емком понятии: «аналогия помешательства». Это – состояния, которые возникают, когда ребенок или «простой человек, дитя природы» попадает в непривычные условия. В целях дифференцирования психопатологических состояний от непатологических в измененных условиях нами (О. Н. Кузнецов, В. И. Лебедев) был предложен термин «псевдопсихопатологические состояния» для обозначения необычных психических феноменов, появляющихся на границе между нормой и патологией. Необычные психические состояния отграничиваются от патологии, во-первых, выраженной «понятностью» связи с окружающей средой. Примечательно, что еще Крафт-Эбинг, сравнивая психопатологические нарушения с психологическими состояниями, трактуемыми им как аналогии помешательства, особенно подчеркивал мотивированность этих последних феноменов. «По внешнему виду помешанный может ничем не отличаться от умственно здорового человека, – писал он, – и только когда мы вникнем в источник и мотивирование психических процессов у того и другого, мы будем в состоянии решать, имеем ли перед собой психически больного или здорового». Психологически понятные связи свидетельствуют о сохранности личности, а не являются непосредственным выражением психопатологического процесса, формирующего синдром. Во-вторых, псевдопсихопатологические реакции отличаются от патологии кратковременностью. В-третьих, по отношению к ним, как правило, сохраняется критичность, возникают сомнения в их реальности. В-четвертых, если человек во время нахождения в необычных условиях существования был убежден в реальности какого-либо представления, то после попадания в обычные условия жизни он легко отказывается от него, следуя логическому объяснению окружающих. Большинство выделенных нами в экспериментах необычных психических состояний у здоровых людей, с одной стороны, были рассмотрены как модели симптомов и синдромов, развивающихся при нервно-психических заболеваниях. Нарушения восприятия пространства и собственного «я» при воздействии измененной афферентации моделируют дереализационные и деперсонализационные синдромы, известные в психопатологии. Эйдетические представления являются моделью зрительных и слуховых галлюцинаций, гипнагогические представления – гипнагогических галлюцинаций. Интерпретационные феномены моделируют бред, а доминантные идеи соответствуют сверхценным идеям. Экстериоризационные реакции (создание собеседника) в условиях одиночества были рассмотрены нами как своеобразные модели синдромов раздвоения личности. Отсутствие обратной связи при операторской деятельности в условиях информационных ограничений создает модель невроза, развивающегося в системе человек-машина. Пониженное настроение, сменяющееся гипоманиакальностью, в экспериментах по сенсорной и информационной депривации моделирует синдроматику при циркулярном психозе. С другой стороны, необычные психические состояния, возникающие на этапе неустойчивой деятельности, позволяют раскрыть особенности протекания психических процессов на границе между психической нормой и психопатологией. Автор выражает надежду, что предпринятое им исследование окажется полезным для дальнейшего изучения особенностей психики человека, находящегося в необычных условиях. Поскольку рассматриваемые проблемы заслуживают внимания не только профессионалов, но и широкого круга людей, интересующихся психологией, автор стремился придать повествованию яркую, увлекательную форму. Насколько это удалось – судить читателю. Примечания:1 Селье Г. Когда стресс не приносит горя. – М., 1992, с. 104–109, 116–135. 6 Лебедев В. И. Личность в экстремальных ситуациях. – М., 1989. 7 Афферентация – приток в центральную нервную систему возбуждений от органов чувств. 8 Рецептор – концевые образования нервных волокон, воспринимающие раздражения из внешней или внутренней среды организма и преобразующие энергию раздражителей в возбуждение, передаваемое в центральную нервную систему. 9 Анализатор – анатомо-физиологическая система у человека и животных, осуществляющая восприятие и анализ раздражений, поступающих из внешней и внутренней среды; к анализаторам относятся все органы чувств. 10 Декомпрессия – болезненное состояние, возникающее при быстром переходе из среды с более высоким давлением в среду с более низким давлением. 11 Проприоцептивный, по Шеррингтону, «ощущающий самого себя». 12 Сенсорная депривация – изоляция, одиночество, «чувственный голод», связанные с существенным ограничением или полным прекращением притока в центральную нервную систему раздражений от органов чувств. 13 Персеверация – циклическое повторение или назойливое воспроизведение, часто вопреки сознательному намерению, какого-либо действия, мысли или переживания. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
