|
||||
|
Часть вторая. КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕВОГИ Глава восьмая Изучение тревоги в индивидуальных случаях
Как же изучать состояние тревоги у человека? В предыдущем разделе мы обсудили важные проблемы индуцирования тревоги у людей в лабораторных условиях. Мы подчеркнули также, что необходимо выяснить, каким образом человек в фантазии, в воображении символически интерпретирует ситуацию. Нужно как следует узнать изучаемого индивидуума — как объективно, так и субъективно, — прежде чем можно будет говорить, является ли его реакция тревогой. Главная причина сложности состояния тревоги у людей заключается в том, что его детерминанты зачастую неосознаваемы. Как показывают описанные далее случаи Брауна и Хелен, личность, испытывающая сильнейшую тревогу, может отрицать существование какого бы то ни было представления о ней — не по собственной прихоти или невнимательности, а просто вследствие силы тревоги самой по себе. Человек может защититься от непреодолимого действия тревоги, только убедив себя, что ему не страшно. Это явление вовсе не ограничено стенами кабинета консультанта; каждому известно, что оно достигло общечеловеческих масштабов. (См. описание стратегии свиста в темноте и переживаний солдат во время боя.) Поэтому неудивительно, что так мало пользы в опросниках, когда субъект сознательно сообщает данные о беспокоящих его фактах (я сам обнаружил это в своем исследовании, описанном далее в этой книге). Некоторые специалисты утверждают, что нахождение «корня проблемы тревоги» вполне понятная иллюзия. Другими словами, требуется метод, который сделает доступными субъективные и бессознательные формы мотивации, так же как и мотивацию в ее сознательных проявлениях. Кьеркегор и Фрейд настаивали на том, что тревога имеет «внутренний локус», и пока мы не поймем этого, смысл человеческой тревоги будет ускользать от нас. У рассматриваемой проблемы имеются два аспекта. Первый — вопрос о том, можно ли принять за единицу исследования «индивидуума в жизненной ситуации». Я полагаю, что можно. Сегодня многие социологи и социальные психологи сообщают об исследованиях в ситуациях «жизненных кризисов», таких как война, несчастные случаи, смерть[411]. Второй, более специфический аспект, заключается в определении того, какие именно методы должны применяться в рамках динамического поля. До появления психоанализа не существовало техники выявления субъективных значений таких переживаний, как тревога, не считая проницательного самонаблюдения и интуитивного понимания других людей, присущих таким одаренным личностям, как Паскаль и Кьеркегор. Но если при описании метода используется термин «клинический», то трактовку этого термина нужно расширить до охвата всех методов, проливающих свет на бессознательную мотивацию[412]. В моем исследовании проективная методика Роршаха, выдающая то, о чем субъект не хочет или не может рассказать, оказалась бесценной для подбора ключей к динамике и скрытым паттернам поведения индивидуума, существование которых было затем подтверждено множеством других данных. Что мы пытаемся обнаружить Описанные далее клинические случаи призваны проиллюстрировать проведенный в предыдущей главе синтез и обобщение теории тревоги. Очевидно, что ни один индивидуальный случай не может дать ответы только на какие-то определенные вопросы и ни на какие иные. Каждый случай нужно брать в его уникальности и непредвзято рассматривать, что нового мы можем узнать о тревоге именно от этой личности. Но более конкретные вопросы, которые мы держим в уме при рассмотрении каждого случая, позволяют добиться большей четкости и детальности. Исходя из этого, перечислю некоторые принципиальные вопросы, которыми я задавался во время работы с индивидуальными случаями. Что касается природы тревоги и ее отношения к страхам, меня интересовало, можем ли мы с уверенностью утверждать, что специфические страхи являются выражением скрытой тревоги? Невротические страхи будут фокусироваться то на одном объекте, то на другом, но скрытый паттерн тревоги останется постоянным при условии, что невротические страхи — это специфическая форма выражения невротической тревоги, вытекающей из основных конфликтов индивидуума. Следовательно, можем ли мы утверждать, что невротические страхи изменяются вместе с изменением проблем и задач, с которыми сталкивается индивидуум, в то время как скрытая невротическая тревога остается постоянной? В предыдущей главе утверждалось, что невротическая тревога основывается на некотором психологическом конфликте и источник конфликта лежит в отношениях ребенка с его родителями. В связи с этим аспектом теории тревоги возникают два вопроса: а) Можно ли в приведенных случаях обнаружить присутствие внутреннего субъективного конфликта как динамического источника невротической тревоги? б) Можно ли показать, что люди, испытавшие отвержение со стороны родителей (особенно со стороны матери), более предрасположены к невротической тревоге? Таким образом подтверждается выдвинутая Фрейдом, Хорни, Салливаном и другими исследователями классическая гипотеза, широко распространенная в области клинической психологии и психоанализа: источник предрасположенности к невротической тревоге лежит в ранних взаимоотношениях ребенка с родителями, особенно с матерью. Во всех аспектах приведенных случаев нужно внимательно прослеживать взаимосвязь тревожности субъекта с особенностями его (ее) культурной среды. Из всей этой сложной области мы выделяем один вопрос: оказывает ли социоэкономический статус индивидуума (средний класс, рабочий класс) существенное влияние на тип и количество проявлений его (ее) тревоги? Что касается тревоги и враждебности: можно ли показать такое соотношение тревоги и враждебности, согласно которому чем тревожнее личность, тем больше она испытывает чувство агрессии? И когда тревога спадает, уменьшается ли вместе с ней и чувство враждебности? У каждой личности имеется свой набор основных, усвоенных с годами способов преодоления тревоги. Можем ли мы обнаружить у индивидуума в вызывающей тревогу ситуации появление характерных поведенческих стратегий (защитных механизмов, симптомов и т. д.), служащих его защите от тревоги? Я подойду к проблеме тревоги и развития личности с другой стороны, пытаясь определить, является ли наличие тревоги фактором, затрудняющим развитие Я. Можно ли показать, что наличие сильной невротической тревоги опустошает личность? Может ли принятие этого опустошения самим индивидуумом защитить его от создающей тревогу ситуации? Можем ли мы обнаружить, что, чем более творческой является личность, тем чаще она сталкивается с подобными ситуациями? Гарольд Браун: конфликт, скрывающийся за сильной тревогой Первый случай — это случай молодого мужчины тридцати двух лет с диагнозом так называемого невроза тревожности[413]. Какие бы диагностические термины ни использовались для описания его проблемы, не было сомнения, что им овладевала сильная и продолжительная тревога, которая угрожала постепенно сокрушить его. Гарольд Браун был моим первым пациентом в курсе обучения психоанализу. Его случай представлен здесь в связи с гипотезой, что определенные аспекты проблемы тревоги — такие как неосознаваемые конфликты — могут быть лучше всего проиллюстрированы исчерпывающими субъективными данными, которые позволяет получить метод психоанализа. Хотя большую часть полученных данных пришлось опустить, я надеюсь, что оставшегося достаточно, чтобы у читателей сложилось некоторое представление о тревоге. Я наблюдал Брауна на протяжении более чем трехсот часов. Моим супервизором был Эрих Фромм, которому я хочу выразить признательность за помощь. Только после того как этот материал был изложен, я понял, как удачно случай Брауна иллюстрирует основные положения Кьеркегора о субъективном конфликте, стоящем за всеми переживаниями тревоги. По-моему, Гарольд Браун пролил новый свет на следующие утверждения Кьеркегора: «Тревога испытывает страх, пока поддерживает тайные взаимодействия со своим объектом, не может отойти от него, а на деле никогда и не сможет…» Тревога — «это стремление к тому, чего человек боится, симпатическая антипатия. Тревога — чуждая сила, которая связывает индивидуума, и он даже не может вырваться или не желает этого делать в силу того, что боится, но стремится к тому, чего боится. Тогда тревога делает человека бессильным»[414]. Гарольд Браун в течение девяти лет, предшествующих нашей встрече, страдал от состояния сильной, возобновляющейся тревоги. После окончания колледжа, где Гарольд пользовался хорошей репутацией благодаря академическим успехам, он поступил в медицинское училище. Через два месяца он почувствовал, что не может выбрать место учебы. Тогда у него впервые развилось состояние тревоги: он не мог спать и работать, появились трудности в принятии простейших решений и боязнь «сойти с ума». Тревога стихла после того, как он оставил медицинское училище. В последующие годы Гарольд пробовал свои силы в других занятиях, но только для того, чтобы отказаться от каждого из них при возобновлении приступов тревоги. Состояния тревоги, обычно продолжавшиеся несколько месяцев (или до тех пор, пока он не бросал ту работу, которой занимался), сопровождались глубокой депрессией и мыслями о самоубийстве. Дважды в периоды наиболее сильной тревоги он попадал в психиатрическую больницу на один и одиннадцать месяцев. В конце концов, на третий год он поступил в другое учебное заведение, на богословский факультет, и когда очередной приступ тревоги лишил его возможности заниматься, обратился за помощью к психоаналитику. На первых наших сессиях настроение Гарольда Брауна колебалось между летаргией и инертностью, с одной стороны, и сильной тревогой — с другой, причем первое было как бы прелюдией ко второму. В таких состояниях пассивности он описывал себя как «собаку, которая лежит на солнце и надеется, что ее кто-то накормит». На этой стадии он предавался блаженным воспоминаниям о том, как о нем заботились, когда он был ребенком. В следовавших за этим состояниях тревоги он выказывал огромное напряжение и говорил очень быстро, как бы стремясь вынырнуть из потока слов. В таких состояниях он описывал свои чувства как нечто эмоционально неопределенное и «размытое». В состоянии тревоги ему было трудно или вообще невозможно испытывать какие бы то ни было ясные и четкие переживания, будь то чувства сексуальной природы или любые другие. Такое состояние эмоционального «вакуума» было для Гарольда в высшей степени неприятным. Он часто ходил в кино или пытался погрузиться в чтение, потому что, по его словам, если бы он мог почувствовать «эмпатию» к другим людям, пережить то, что переживали они, это в какой-то степени облегчило бы его тревогу. Очевидно, что он описывает здесь состояние ослабленного осознавания своего Я, характерное для сильной тревоги. Я считаю очень важным его инсайт о том, что если бы он мог на чувственном уровне осознать реальность других людей, то смог бы в той же степени осознать и себя как субъекта, отделенного от объектов. Первый тест Роршаха, предложенный Гарольду Брауну в начале анализа в то время, когда он испытывал достаточно сильную тревогу, дал следующие результаты: преобладание неопределенных, простых, общих ответов, их небольшое количество, низкий уровень продуктивности, банальность и полное отсутствие оригинальности[415]. «Размытое» отношение к реальности, отображенное в его первом тесте Роршаха, соответствует признанию Брауна, что при сильной тревоге он не может испытывать «отчетливых чувств». Это выглядело так, как будто внутренняя, субъективная неопределенность, присущая тревожному состоянию, выливается в общую неопределенность его способов оценки и внешних, объективных стимулов. Это подтверждает выдвинутый ранее тезис, что сильная тревога разрушает способность осознавать себя по отношению к объектам и, соответственно, является переживанием «растворения» своего Я. Попытка Брауна перебороть тревогу путем осознавания чувств других людей является инсайтом в том смысле, что он сумел бы тогда осознать себя по отношению к другим людям и в равной степени преодолеть состояние, которое мы называем «растворением» своего Я. Гарольд Браун родился в Индии и был сыном американских миссионеров. Когда его мать была беременна им, двое других детей умерли от чумы. В детстве он чувствовал, что с ним «нянчились», и не только его мать, но и служанки-индианки, которые до семи лет одевали его. Позже родились еще три сестры, с одной из которых ему пришлось вести настоящую борьбу за внимание родителей. «Я хотел быть ребенком», — выразился он. Когда родители принимали сторону его сестры, он чувствовал глубокое негодование и угрозу для себя. Когда пациент был подростком, у его отца диагностировали маниакально-депрессивный психоз, и семья вернулась на родину, где отец был госпитализирован. Несколькими годами позже его отец совершил самоубийство[416]. Решающую роль в возникновении тревоги у Брауна сыграли отношения симбиотической зависимости с матерью. Ранние отношения освещаются двумя важными эпизодами воспоминаний. Первый эпизод относится к пятилетнему возрасту, когда его мать, кормившая одного из младенцев, предложила ему грудь со словами: «Может быть, ты тоже хочешь попить?» Сильное унижение, которое Гарольд испытал при указании, что он был еще ребенком, часто возникало в ходе терапии при обсуждении разных контекстов его отношений с матерью. Второй случай произошел в возрасте восьми лет, когда мать наказала его за шалость тем, что заставила выпороть ее. На этом травматическом переживании от необходимости наказать собственную мать впоследствии сосредоточилось убеждение, что он не может иметь собственное мнение или высказывать суждение независимо от нее, потому что тогда она возьмет на себя роль мученицы и «его руки окажутся связанными». Мать господствовала над ним по формуле: «Если ты идешь против моей власти, ты не любишь меня». Мать поддерживала Гарольда как во время терапии, так и в течение периодов безработицы. И он, и его мать беспокоились о том, как он будет содержать себя после ее смерти. Даже сейчас письма матери начинались словами «мой дорогой мальчик», а после их получения Гарольду часто снились тревожные сны о том, что его «кто-то пытается убить» или что «русские пытаются подойти к границе маленькой страны». В одном из писем от матери, полученном во время анализа, утверждалось, что, если ее вера в Бога достаточно сильна, то он излечится от болезни через ее веру. Понятно, что Гарольд был обижен замечанием, будто он ничего не может сделать, чтобы помочь себе без ее вмешательства. Происхождение паттерна тревоги у Брауна можно понять в контексте того, что с момента рождения ему приходилось иметь дело с доминирующей, садомазохистского склада матерью, которая реализовывала свою тираническую власть, то прибегая к силе, то с помощью более эффективной (и для Гарольда более болезненной) стратегии — маскируя ее собственной слабостью. Этот конфликт, скрытый за тревожностью, отражен в двух сновидениях первого месяца терапии:
Примечательно, что в этом сне мать приказывает ему удовлетворить ее и Гарольд приписывает ей сексуальные функции мужчины. Через несколько недель он получил известие, что его мать повредила руку, и эта новость так обеспокоила его, что он немедленно позвонил ей в далекий город, где она жила. Той ночью ему приснился следующий сон:
Ассоциации с пенисом — «сила», «власть», «у меня самого пенис маленький» — показали, что это слово для Гарольда, как и для многих людей в нашей культуре, символизировало его собственную силу. Поскольку очевидно, что рука принадлежит его матери, этот сон самым простым из всех возможных способов говорит, что мать отняла у него силу и он будет убит, если попытается вернуть ее. В обоих снах Гарольд рассматривает свою мать как носителя огромной власти, в том числе мужской силы, а себя — как жертву ее притязаний. Его конфликт можно сформулировать так: если он попытается использовать собственные силы, работать и добиваться результатов независимо от матери, то будет убит. А за то, чтобы идти по другому пути, то есть по пути зависимости от матери, ему придется заплатить продолжающимся чувством неадекватности и беспомощности. Этот способ выхода из конфликтной ситуации требует отказа от личной автономии и силы, но, говоря языком символов, лучше быть кастрированным, чем мертвым. Эти сны могут быть интерпретированы в классическом ключе — через эдипов комплекс, инцест и кастрацию. Но, по моему мнению, значение символов гораздо важнее сексуального содержания. С этой точки зрения, основным моментом первого сна является не сам факт сексуального контакта субъекта с матерью, а то, что мать отдает ему распоряжения. Тот, кто кастрирует Брауна во втором сне, — его мать, а не отец. Конечно же, в подобных случаях можно найти множество намеков на инцест. Этот важный момент показан в следующем сне: «Я тайно вступил в брак с женщиной старше меня. Я не хотел этого и устроил так, чтобы меня положили в больницу». Вот красноречивое доказательство его борьбы за отделение от матери, которая и привела его в психиатрическую лечебницу (поэтому можно предположить, что его психическое заболевание выполняло функцию защиты от матери). Кто-то может предположить, что его нежелание жениться на той женщине и помещение в больницу были результатом чувства вины, связанного со стремлением к инцесту, но я не считаю нужным предлагать такую интерпретацию. Сон можно истолковать и проще: он знает, что женитьба на матери на самом деле означает порабощение тираном, и готов предпочесть лечение в больнице, если это единственный способ избегнуть такой судьбы. В своем исследовании я рассматриваю феномен инцеста как показатель излишне зависимых отношений человека с родителем, под гнетом которых личность была неспособна «вырасти». Приведенные выше сны показывают, каким жестоким может оказаться конфликт, затаившийся под невротической тревогой. Неудивительно, что конфликт оказывает такое парализующее и обессиливающее воздействие на Гарольда Брауна. Многие поверхностные данные об этом случае могли бы быть интерпретированы в адлерианском ключе — как тревога, используемая для того, чтобы оставаться под крылом матери или заменяющих ее лиц. Но при такой интерпретации мы не должны упускать из виду калечащий конфликт, скрывающийся под покровом тревожности. Понятно, почему такой человек описывает свои чувства в состоянии тревоги как «борьбу с чем-то в темноте, когда не знаешь, что это такое». Получив от друзей письма с нравоучительными советами, Гарольд отреагировал на них удивительно точной аналогией: «Они [друзья] похожи на людей, призывающих утопающего плыть, но они не знают, что под водой он связан по рукам и ногам». Теперь мы обращаемся к вопросу о тех событиях, которые обостряли тревогу у Гарольда Брауна. В периоды острой тревоги, которые обычно продолжались от трех до семи дней, было практически невозможно выяснить, что именно в происшедшем повергло его в панику. Когда я побуждал его рассмотреть, что же послужило поводом для тревоги или «того, чего» он боялся, Гарольд настаивал, что все эти обстоятельства не имеют никакого отношения к тревоге, и утверждал: «Я боюсь всего, я боюсь жизни». Он осознавал только сильный, парализующий конфликт. Но его ощущение, что причина имеет лишь второстепенное значение, выглядит весьма логичным, несмотря на то, что событие или переживание, вызвавшее конкретный приступ тревоги, зачастую можно было выявить после прекращения паники. Я не хочу сказать, что просто сильная тревога делала его неспособным к объективному восприятию реальных ситуаций. Скорее, я имею в виду, что повод — еще не причина тревоги. Чем бы конфликт ни обострялся, именно он был причиной тревоги, порождая паралич и беспомощность. Если уж вдаваться в объяснения этой «логики», то получается, что определенные события или переживания, которые активизировали конфликт, могли быть относительно маловажными объективно, но имели субъективное значение в том смысле, что служили усилению конфликта и теряли объективную значимость по мере его ужесточения[417]. При менее сильных приступах тревоги можно было обнаружить связанные с ней обстоятельства. Эти события, так же как и события, ретроспективно реконструированные после сильной паники, подпадают под три главные категории. Во-первых, тревога была со всей очевидностью обусловлена ситуациями, в которых Гарольду приходилось принимать на себя личную ответственность. Например, перед летним перерывом в нашей терапевтической работе он испытывал огромное напряжение и в ужасе разражался потоками слов о том, что у него может быть рак. Страх ракового заболевания ассоциировался с пережитой в детстве панической тревогой по поводу того, что он может заболеть проказой и его придется изолировать от семьи. Без сомнения, человек с таким глубоким чувством неадекватности будет страшиться расставания и изоляции от тех людей, с которыми его связывают отношения зависимости. После того как у пациента проявилась тревога по поводу расставания со мной, его терапевтом, страх ракового заболевания исчез. Еще один случай тревоги в ситуации принятия на себя ответственности произошел после года анализа, когда он перешел на последний, выпускной курс обучения. За этим последовало несколько сильных приступов тревоги, во время которых Гарольд был подавлен чувством беспомощности и неадекватности в связи с перспективой написания докладов и сдачи экзаменов. Ему казалось, что он «не справится», «проиграет забег», «потеряет свое лицо» и т. д. После того как он успешно прошел все пугавшие его испытания и его беспокойство уменьшилось, стало ясно, что эта тревога была вызвана не реалистической оценкой своей неадекватности перед лицом задачи (т. е. обстоятельствами), а скорее невротическим конфликтом, который пробудила эта задача. Ко второй категории поводов для тревоги можно отнести ситуации соревнования. Эти ситуации включали в себя не только такие важные события, как экзамены, но и относительно незначительные события вроде игры в бридж или дискуссий с коллегами. Тревога при соревновании обычно ассоциировалась с жестоким соперничеством с сестрой в детстве. Следовательно, прототипом этой ситуации тревоги является угроза чрезмерной потребности Гарольда в одобрении и признании со стороны матери. Но на уровне, лежащем чуть глубже ощущения нехватки личной способности к достижению, Гарольд сталкивается с дилеммой: если он чего-то добьется — то есть использует собственные силы, — то примет смерть от рук своей матери. Тогда становится понятным, что самая незначительная ситуация соревнования активизирует сильнейший субъективный конфликт. Третья, и самая значительная, группа поводов для тревоги — беспокойство после достижения успеха. В последний год обучения Гарольда пригласили провести встречу профессионального сообщества, что представляло для него значительное достижение. Некоторое скрытое напряжение перед этим событием было прояснено, и он успешно справился со своими ответственными обязанностями, получив похвалу от людей, которые обладали высоким статусом в его глазах. На следующий день им овладели сильнейшая тревога и депрессия. Это становится понятным с учетом рассмотренного ниже конфликта, согласно которому использование собственных сил влечет за собой угрозу быть убитым. Гарольд обычно избегал признания каких-либо своих достижений, например, не носил значок члена клуба «Фи Бета Каппа»[418], потому что, как он выразился, «добиваясь успеха, я боюсь, что это воздвигнет барьер между мной и другими людьми». Если он просыпался утром, чувствуя себя сильным и отдохнувшим, его преследовали опасения, как бы не «отделиться от других людей». Гарольд чувствовал, что преодолевает состояния тревоги, когда плачет на терапевтических сессиях, «показывая свою слабость». Такое выражение своей слабости облегчало его конфликт по крайней мере в двух отношениях: во-первых, будучи слабым, Гарольд был любим — как когда-то своей матерью, — в то время как быть сильным означало для него изоляцию и расставание с матерью; и, во-вторых, слабость и неудачливость позволяли ему избежать угрозы смерти. Мы рассмотрели невротический конфликт как причину тревоги и переживания или события, активизирующие этот конфликт, как повод для тревоги. Чем сильнее была тревога у Брауна, тем более явным становился конфликт и тем незначительнее переживался повод. В этом смысле значимость обстоятельств зависит от их субъективной роли в провоцировании конфликта. Мы также отметили, что обстоятельства всегда находятся в последовательной логической связи со специфической природой конфликта, т. е. далеко не случайно, что именно ситуации соревнования, принятия на себя ответственности и достижения успеха давали толчок к обострению конфликта. Эти обстоятельства всегда сопровождались некой подразумеваемой угрозой (поражение в соревновании, «потеря лица» и т. д.). Но я хочу обратить внимание на то, что во время активизации конфликта Гарольд Браун сталкивался с угрозой везде, куда бы ни повернулся. Значит, тревога была порождена не столько предчувствием угрозы, содержавшейся в ситуации (например, что он может провалиться на экзамене), сколько переживанием дилеммы, согласно которой ему угрожали сразу со всех сторон. Если он добивался успеха, — ему угрожала смерть от рук матери; если ему не удавалось чего-то достичь и он оставался зависимым, — его обуревали чувства беспомощности и неадекватности. Теперь можно выявить общий механизм развития всех состояний тревоги Гарольда. Сначала он рассказывал о том, что боится заболеть раком, или о том, что недавно испытал кратковременное головокружение — «как будто кто-то ударил его по шее». Он несколько раз описывал это состояние, сравнивая его с «убийством кролика», с ударом по шее, которым убивают кроликов. Имеется в виду, что кроликом был он сам. Последний симптом ассоциировался у Гарольда с электрошоковой терапией, которую он проходил несколько лет назад, и указывал, по его словам, на какое-то органическое поражение мозга[419]. И страх ракового заболевания, и головокружение преподносились Брауном как абсолютно рациональные факты, подтвержденные газетной информацией об увеличении числа онкологических заболеваний с летальным исходом[420]. Когда я предлагал исследовать психологическое значение страхов, Гарольд обижался и настаивал на том, что не испытывает никакого сознательного беспокойства. Вторая стадия наступала днем позже: страхи, связанные с раком и головокружением, были забыты, их место занимали тревожные сны, чаще всего о матери. Но на сознательном уровне тревога все еще не признавалась. На третьей стадии Браун выказывал растущую зависимость от меня, настаивал на авторитарном руководстве и реагировал на отказ открытой или скрытой враждебностью. Еще через день или два он совершал последний, четвертый шаг — возникал осознанный приступ тревоги с сопутствующим сильным напряжением, отчаянием и возможной депрессией. Мне кажется, что в данном случае можно говорить о последовательных стадиях осознавания тревоги, предположительно вызванной некоторыми переживаниями или событиями, которые напрямую предшествовали рассказам о головокружении или страхе ракового заболевания. Сны и некоторые высказывания Гарольда свидетельствуют о том, что у пациента была подавленная враждебность к матери. Ведь с точки зрения практически любой психологической школы невозможно представить себе человека, существующего с такой дилеммой без переживания сильной враждебности. Во время терапии враждебность Гарольда проявлялась в двух противоположных формах. Во-первых, он демонстрировал враждебность во всех случаях, когда ему не позволяли оставаться в состоянии зависимости. Это была враждебность как реакция на тревогу при необходимости принять на себя автономную ответственность, для которой он чувствовал себя неадекватным. Когда Гарольду казалось, что анализ требует слишком много усилий и ответственности с его стороны, он требовал, чтобы аналитик давал ему особые советы и авторитарные указания, как министр, «отдающий распоряжения в области морали и религии», или врач, который точно говорит ему, что с ним не в порядке и что нужно делать, в то время как ему самому вообще не приходится отвечать за собственные действия. Такой психосоматический симптом, как диарея, часто сопровождал его чувства враждебности, вызванные необходимостью принятия на себя личной ответственности. Это видно из следующего замечания Гарольда: «Я чувствую себя закупоренным. Если бы я только мог сделать так, чтобы все мои внутренности содрогнулись, если бы я только мог сойти с ума!» Другая форма враждебности возникала, как только Гарольда ставили в позицию беспомощности и зависимости. В эту категорию попадает большая часть подавленной враждебности к матери. Мы уже отметили проявление такой враждебности на пятом году жизни, когда мать, предложившая ему свое молоко, унизила его указанием на то, что он еще ребенок. В отношениях со мной, так же как и с другими людьми, Гарольду было трудно признать открытую враждебность. Обычно враждебность принимала форму негодования, выражалась в сновидениях или вымещалась на окружающих. Испытывая тревогу, он в каждом видел врага. Отметим, что поводы для агрессии противоречивы и соответствуют двум аспектам основного конфликта Брауна. Другими словами, враждебность была реакцией на обострение одной из сторон конфликта. Между возникновением конфликта и агрессивностью существует прямая связь: чем сильнее была его тревога, тем больше было враждебности (скрытой или открытой). Когда тревога уменьшалась, уменьшалась и враждебность. Гарольд практически не мог признать присутствующую в сновидениях открытую агрессию в адрес матери и все указания на нее в форме затаенной обиды на мать и особого раздражения от ее писем. Враждебность чаще всего приходилось подавлять, иначе она угрожала бы полной зависимости от матери. Две вторичные выгоды от возобновляющегося психологического расстройства, обнаруженные в ассоциациях, заключались в том, что Гарольд мог оставаться зависимым от матери и даже как-то отомстить ей, когда ему требовалась ее поддержка. Второй тест Роршаха, предложенный Брауну после десяти месяцев анализа, когда он относительно освободился от тревоги, показал совершенно иную картину[421]. Теперь он дал пятьдесят ответов, вместо восемнадцати при первом тестировании, три оригинальных ответа, не сравнимых ни с одним из прежних, и обнаружил гораздо большую способность относить себя к конкретной реальности. Банальность, характерная для первого тестирования, исчезла; перед нами предстала продуктивная и эффективно функционирующая личность. Неважно, чему именно мы приписываем изменения — году психоанализа, преобразующей ситуации и т. д., — но факт остается фактом: во время первого тестирования Гарольд Браун пребывал в состоянии тревоги, а во время второго таковой не наблюдалось. Напрашивается вывод, что в этих двух протоколах мы имеем контрастную картину поведения и личности одного и того же человека — как в состоянии сильной тревоги, так и в ситуации относительной свободы от нее. При первом тестировании мы наблюдаем индивидуума, тревога которого блокирует способность устанавливать связи с конкретной реальностью, делает реальность нечеткой и «размытой» и лишает его возможности думать и чувствовать. Это изображение человека, который не может позволить себе осознавать присутствие других людей и отвечать на него, «замкнутой», несвободной и опустошенной личности. Во втором случае перед нами предстает гораздо более свободный человек, способный замечать окружающий мир и устанавливать с ним отношения, осознавать других и, соответственно, себя; личность, чья прежняя банальность исчезла и сменилась настоящей оригинальностью. Выводы Случай Гарольда Брауна демонстрирует несколько важных аспектов динамики тревоги, некоторые из них я еще раз вкратце рассмотрю. В кратких обзорах все проблемы кажутся проще, чем на самом деле. Может показаться, что в последующих выводах тревога показана как ненормальное состояние, поражающее только невезучих людей. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что тревога — это вызов, который бросает нам жизнь на всем своем протяжении. Трагедия Брауна состояла в том, что его тревога, временами достаточно сильная, чтобы лишить его всех возможностей существования, была скорее деструктивной и парализующей, чем оживляющей и бросающей вызов. Надеюсь, читатель будет помнить о том, что тревога присуща человеческой природе в лучших ее проявлениях. Соотношение страхов и тревогиОтношение тревоги к страху показано на примере ужаса, связанного с возможностью ракового заболевания. Сначала он дал о себе знать как отдельный «реалистический» страх, для подтверждения справедливости которого Браун прибегал к всевозможным доказательствам. Но позже выяснилось, что это объективированное проявление скрытой невротической тревоги[422]. Конфликт, залегающий под невротической тревогойЯ предположил, что тревога Гарольда выросла на почве симбиотических отношений с матерью. Эти отношения были отмечены конфликтом между его стремлением достичь некоторой автономии и использовать только свои силы — и убеждением в том, что он встретится со страшной угрозой смерти от рук матери, если начнет целиком полагаться на себя. Соответственно, его поведение характеризовалось пассивностью, подчинением себя другим (как когда-то матери) и потребностью в заботе со стороны окружающих. В то же время Гарольд испытывал захлестывающие его чувства неадекватности и беспомощности. За активизацией этого конфликта всегда следовала сильнейшая тревога. Теоретически можно допустить, что конфликта не было бы вовсе, если бы он подчинился материнской власти и забыл про свою самостоятельность. Но такая перспектива только усиливала его чувства ничтожности и неадекватности. Я сильно сомневаюсь, что человеческое существо может постоянно жертвовать своей автономией ради кого-то еще и таким образом избегать конфликта. Можно добавить, что прогресс пациента в преодолении тревоги шел по трем направлениям: (1) постепенное прояснение прежде неосознаваемых отношений с матерью; (2) отказ от излишних амбиций (которые раньше проявлялись в перфекционистских стараниях в обучении); и (3) постепенный рост уверенности в своих силах и способности применять их без последующего чувства страха. Направления его развития представлены здесь в достаточно упрощенном виде, но это, по крайней мере, дает представление о том, как одновременно сглаживались обе стороны его конфликта. Соотношение враждебности и тревогиЭто соотношение заметно в том, что конфликт и сопровождающая его тревога поддерживались подавленной враждебностью по отношению к матери. Точнее говоря, мы заметили факт взаимодействия тревоги и враждебности в том, что Браун во время сильной тревоги проявлял повышенную агрессивность (скрытую или явную), а когда тревога стихала, то же самое происходило и с агрессивными чувствами. Симптомы и тревогаГоловокружение (психосоматический симптом) и страх заболеть раком (психологический симптом) появились на первых шагах продвижения неосознаваемой тревоги в сторону осознания. Как только тревога стала осознанной, симптомы исчезли. Это соответствует выдвинутому ранее предположению, что наличие симптома имеет обратное отношение к осознанию тревоги. Симптом выполняет функцию защиты личности от ситуации, создающей тревогу, то есть от любой ситуации, провоцирующей конфликт. Предположим, что у молодого человека действительно был бы рак или органическое поражение. Тогда его конфликт смягчился бы в нескольких отношениях: (а) он мог бы остаться в положении зависимости (например, лежа в больнице) и не испытывать при этом чувства вины; (б) он мог бы избежать выполнения задач, для решения которых чувствовал себя неадекватным; (в) он мог бы даже расправиться с матерью, попросив ее о поддержке во время болезни. Сильная тревога и опустошенность личностиСвязь этих явлений видна в сравнительном анализе двух тестов Роршаха, который я хотел бы вкратце повторить. Первый тест, предложенный Гарольду Брауну во время приступа тревоги, характеризуется малой продуктивностью, неопределенностью, отсутствием оригинальности и блокировкой как «внутренней» активности, так и реакций на внешние эмоциональные стимулы. Тестирование, проведенное в момент относительной свободы от тревоги, показывает гораздо больше продуктивности, увеличившуюся способность оперировать в условиях конкретной реальности, достаточно много оригинальных суждений и значительно усилившуюся «внутреннюю» активность, так же как и возросшую эмоциональную отзывчивость по отношению к людям и предметам[423]. Глава девятая Исследование незамужних матерей
Эти тринадцать случаев рассматриваются здесь в рамках проведенного мной исследования тревоги у незамужних матерей из приюта «Ореховый дом» в Нью-Йорке[424]. Я выбрал именно эту группу лиц, потому что хотел исследовать людей в ситуации кризиса. Предполагаю, что в кризисной ситуации динамика индивидуального поведения более доступна для изучения, чем в так называемых «нормальных» ситуациях. Опасаясь разрушительных эффектов, которые могут последовать при индуцировании тревоги в экспериментальной лаборатории, я предпринял так называемый «полевой эксперимент». Предполагается, что в то время в нашем обществе внебрачная беременность была вызывающей тревогу ситуацией. Далее, я счел целесообразным исследовать группу, каждый из членов которой находился в одной и той же ситуации тревоги. Ради исследования группы людей, каждый из которых предположительно находится в одной и той же кризисной ситуации, я отказался от своего первоначального намерения изложить несколько случаев из собственной терапевтической практики, вроде случая Гарольда Брауна. Подчеркиваю: я не уверен в пригодности этого исследования для выявления связи внебрачной беременности и тревоги[425]. Теоретически, для моих целей подошла бы и любая другая ситуация, вызывающая тревогу. Русский психолог А.Р. Лурия проводил свои исследования психологического конфликта на примере заключенных в тюрьмах и студентов во время сложного экзамена. Важно то, что ситуация кризиса дает возможность извлечь на поверхность глубоко запрятанные паттерны личности. Итак, я придерживаюсь мнения, что в ситуации тревоги реакции индивидуума не только являются специфичными для данной ситуации, но и выявляют паттерн, который характерен для этого индивидуума и будет использоваться им или ею в другой ситуации такого же типа. Как мы увидим при рассмотрении клинических случаев, полученные от молодых женщин данные касаются тревоги и соревновательных амбиций, тревоги в фобических паттернах, тревоги, связанной с враждебностью и агрессивностью, тревоги и разнообразных внутренних конфликтов, а также других форм тревоги, едва ли имеющих что-то общее с состоянием внебрачной беременности как таковым. Большинство этих паттернов тревоги одинаково применимы также и к бизнесменам, университетским профессорам, студентам, домохозяйкам и другим группам нашего общества. Чем внимательнее мы изучаем данного индивидуума, тем больше у нас возможности раскрыть паттерны, общие для него и для других людей в других социальных группах. Иными словами, чем глубже мы изучаем одного мужчину или женщину, тем ближе подходим к особенностям, скрытым под пластом индивидуальных различий, и, следовательно, тем больше узнаем о свойствах, присущих всем человеческим существам[426]. Методы исследования В исследовании клинических случаев незамужних матерей использовались самые разнообразные методы сбора данных. Получение информации непосредственно от молодых женщин проводилось с помощью индивидуальных интервью, тестов Роршаха (первый тест давался каждой девушке перед родами, второй тест был предложен пяти из них после родов) и опросников. С каждой из молодых женщин я проводил от четырех до восьми часовых бесед. Социальные работники проводили с ними от двадцати до сорока интервью. Поскольку эти беседы не были приспособлены специально к целям исследования, они позволили собрать богатый материал об установках, поведении и прошлом молодых женщин[427]. Кроме того, молодые женщины заполняли опросник из трех листов. Первый лист был направлен на определение фокуса тревоги в детском возрасте, второй — во время текущего состояния беременности, а третий (заполняемый после родов) — в будущем, в связи с проблемами, возникающими после рождения ребенка[428]. Во время пребывания молодых женщин в «Ореховом доме» социальные работники, нянечки и другой персонал приюта вели наблюдения за их поведением. Помимо этого, у нас был доступ к многочисленным косвенным данным, например, отчетам о медицинском обследовании каждой женщины, психометрическому обследованию, если таковое считалось необходимым, характеристикам из школы или колледжа и — в большинстве случаев — к объективным данным об их семейной среде, полученным через другие социальные агентства. Более чем в половине случаев с помощью социальных работников приюта были опрошены родители и родственники молодых женщин. Шкалирование тестов Роршаха, изначально проведенное мной, было затем независимо перепроверено специалистом по этому тесту. Моя сопутствующая интерпретация каждого Роршаха была согласована с доктором Бруно Клопфером, который дополнительно провел оценку всех результатов по шкалам глубины и широты тревоги и по эффективности защиты субъекта от тревоги[429]. Одной из целей опросников было получение дополнительных сведений о количестве проявлений тревоги у молодых женщин (по числу заполненных пунктов). При чисто количественном подсчете отметка в графе «часто» (показывающая, что девушка часто испытывала тревогу в ситуации, обозначенной в данном пункте) получала в два раза больше баллов, чем отметка в графе «иногда». А второй (и, как оказалось, наиболее важной) целью опросников было получение информации о видах (или областях) испытываемой девушкой тревоги. С этой целью пункты опросника были разделены на пять категорий: (1) опасения фобического характера; (2) тревога девушки по поводу того, что о ней думает ее семья; (3) тревога по поводу того, что о ней думают ровесники; (4) тревога в области личных амбиций — т. е. успеха или неудачи на работе или в учебе; (5) разное[430]. При изучении каждого индивидуального случая такого типа доступным становится почти неограниченное количество материала, который не является ни чисто количественным, ни чисто качественным. В свете всех данных, полученных по каждому случаю, я попытался рассмотреть каждую молодую женщину в трех измерениях: структурном — в основном с помощью теста Роршаха; поведенческом — ее поведение в настоящее время; генетическом — или в измерении развития, важным аспектом которого были сведения о ее детстве. Используя эти три измерения, я надеялся подойти к концептуализации каждого случая, т. е. получить представление о ряде личностных черт. Количество и качество тревоги в каждом случае является неотъемлемой частью этого ряда. В связи с этим в каждом случае было необходимо определить отношение тревоги к другим элементам ряда, например, к степени отвержения, которую каждая молодая женщина испытала со стороны родителей. Чтобы проследить взаимосвязь этих процессов, каждый субъект был отнесен мной по шкалам тревоги и отвержения к одной из четырех категорий: высокое, умеренно высокое, умеренно низкое и низкое. Эти оценки основывались на имеющихся данных, а также на суждениях, независимо вынесенных исследователем и социальными работниками[431]. Центральный критерий валидности концептуализации каждого случая, так же как и правильности оценки и понимания тревоги, — внутренняя согласованность[432]. К примеру, я все время задавался вопросом: являются ли данные, полученные разнообразными методами (интервью, тесты Роршаха, опросники), внутренне согласованными в рамках концептуализации каждого случая? Имеется ли внутренняя согласованность в концептуализации структурных, поведенческих и генетических аспектов каждого случая? Аналогично, если тревога была оценена правильно, она должна внутреннее согласовываться с другими чертами каждой личности. По моему мнению, данные из разных источников в целом согласовывались между собой, за исключением оценок количества тревоги в опросниках. Причины, по которым эти пункты не вписываются в общую картину, рассматриваются при обсуждении случаев. Некоторые из описанных ниже случаев, когда требовалось рассмотреть лишь один или два вопроса, представлены очень кратко. Собственные слова субъекта приводятся по возможности чаще. Очевидно, что из огромного массива данных о каждом человеке было необходимо произвести некоторый отбор. Надеюсь, что по каждому случаю представлено достаточно материала, чтобы разъяснить ход его концептуализации и осветить важные для нас вопросы. Хотя здесь приводятся количественные оценки по тесту Роршаха, нетрудно понять, что описание очертаний каждого пятна гораздо важнее для интерпретации, чем числовой балл. За исключением специально оговоренных случаев, родители всех девушек были белыми американцами протестантского вероисповедания. Хелен: интеллектуализация как защита от тревоги По прибытии в «Ореховый дом» Хелен вошла в офис, покуривая сигарету, с видом спокойным и беспечным. Достаточно привлекательная, она излучала жизненную силу человека, гордящегося своей непосредственностью. Некоторые наиболее яркие и значимые черты ее поведения проявились уже во время первого интервью. Хелен немедленно заявила, что у нее нет ни малейшего чувства вины, связанного с беременностью. Она охотно рассказала, что после приезда в Нью-Йорк жила с двумя разными мужчинами, и на одном дыхании выпалила, что «такие дела волнуют только педантов». Но под показным дружелюбием и свободой ее речи обнаруживались некоторые проявления тревоги и напряжения: хотя Хелен часто и весело смеялась, ее глаза оставались широко раскрытыми, как будто она была чем-то испугана. И у меня, и у социального работника, который беседовал с Хелен, немедленно создалось впечатление, что она использует специальную технику шутливого уклонения от ответов, чтобы скрыть тревогу, причина которой нам была пока еще неизвестна. Она была двадцатидвухлетней дочерью родителей-католиков из среднего класса, отец Хелен был итальянец по происхождению. На протяжении всего детства семья Хелен, из-за того, что отец не мог найти постоянную работу, то жила достаточно благополучно, то почти бедствовала. В течение двух лет Хелен посещала приходские школы и колледж для католиков, но к настоящему времени чувствовала себя освободившейся от религиозных влияний прошлого. У нее был брат на год старше и сестра двумя годами младше, с ними Хелен поддерживала близкие и любящие отношения. Она рассказала мне, что их родители слишком много ссорились, поэтому трое детей научились держаться вместе. Родители Хелен развелись, когда ей было одиннадцать лет, и оба повторно вступили в брак. Она жила попеременно то у одного, то у другого, причем ей приходилось уезжать от отца из-за того, что мачеха ревновала, потому что девочка была более привлекательна, и покидать дом матери, потому что отчим, а позднее и любовники матери, делали ей недвусмысленные предложения. За два года обучения в колледже Хелен доводилось добиваться блестящих, но неустойчивых успехов. После окончания колледжа она выполняла разную рутинную работу, например, оператора копировальной техники. Заскучав, она бросала работу каждые два или три месяца, «и вот тогда-то и попадала трудное положение», т. е. начинала жить с мужчинами. У нее была мечта писать сценарии для радиопьес. Несколько показанных мне образцов сценариев были очень хорошо выполнены технически, но в содержании проглядывала неестественность и не хватало живого чувства. Она приехала в Нью-Йорк два года назад с замужней тетей двумя годами старше нее, к которой была очень привязана. Тетя в настоящее время тоже была беременна и переехала в другой город. По этому поводу Хелен заметила: «Она тоже устроила из своей жизни полный бардак». Отец ребенка Хелен, второй мужчина, с которым она жила в одной квартире после приезда в Нью-Йорк, служил в торговом флоте. Хотя Хелен и описывала его как симпатичного интеллигентного человека, но после известия о своей беременности она резко изменила отношение к нему и оборвала с ним все контакты. Результаты медицинского обследования Хелен были негативными: ее охарактеризовали как «нервную и взвинченную», и психиатр прописал ей ежедневную дозу фенобарбитала. Тревога Хелен была самым непосредственным образом сосредоточена на беременности и приближающихся родах. И тревога, и связанные с ней защитные механизмы интеллектуализации, отшучивания и уклонения от ответа проявлялись не только в наших интервью, но и в ее манере общения с другими молодыми женщинами в приюте. Она часто отказывалась говорить о своей беременности с социальным работником, заявляя: «Просто мне кажется, что я не беременна, и я не допущу даже мысли об этом, пока ребенок не родится». Но с другими обитательницами приюта Хелен подолгу обсуждала беременность в псевдонаучной, интеллектуализированной манере. Она описывала им эмбрион на разных стадиях развития, как будто цитировала медицинский учебник. Однажды она получила письмо от тети, в котором сообщалось, что та отправилась рожать в больницу; Хелен отреагировала на это приступом истерических рыданий. Было очевидно, что она перенесла на тетю большую часть своей тревоги по поводу родов, но все равно отказывалась говорить о собственной беременности даже после того, как социальный работник прямо указал ей на это. Когда я обмолвился, что результаты ее теста Роршаха указывают на тревогу по поводу рождения ребенка, Хелен ответила:
Я думаю, читатель согласится, что слова о возможности катастрофы и желании ее скорейшего наступления принадлежат сильно испуганному человеку. Можно представить себе человека, который насвистывает в темноте и отгораживается от ужасающей его перспективы патетической бравадой. Это напоминает о наблюдениях Р.Р. Гринкера и С.П. Шпигеля в книге «Человек, испытывающий стресс», где говорится, что тревожный летчик первым поднимается в воздух в ситуации повышенной опасности, потому что опасность сама по себе не так болезненна, как ее ожидание. Хелен так виртуозно владела «техниками» бравады и отшучивания, помогающими ей снизить тревогу, что прибегала к ним вплоть до последнего момента перед родами: уезжая в больницу, она оставила мне записку: «Я удаляюсь, чтобы раздобыть себе новую фигуру». Акушер рассказал мне, что перед тем как потерять сознание под наркозом Хелен произнесла: «Это будет неплохое сырье для усыновления». Из описания детства Хелен удалось почерпнуть следующие основные факты: яростные ссоры родителей, частые перемены в кругу семьи (развод родителей, конфликты с отчимом и мачехой и т. д.) и ее собственное признание в том, что она была очень одиноким ребенком. Есть множество доказательств того, что отец открыто отвергал Хелен и других детей. Она вспомнила, что он частенько отправлял детей на весь день в кино, пока сам играл в гольф. После этого он приходил домой пьяным, и между родителями разражались скандалы. По отношению к матери Хелен испытывала сожаление и обиду за ее «нелояльность». Хелен стала ощущать эту «нелояльность» в пятнадцатилетнем возрасте, когда они с матерью начали ругаться. Хелен сочла свою мать нелояльной по следующим причинам: (а) беспорядочные любовные связи матери; (б) мать теперь считается не с Хелен, а с ее сестрой; (в) мать получила небольшой срок тюремного заключения за соучастие в мелком преступлении. Чувство вины Хелен снова противоречит ее моральным нормам: она считала мать морально ответственной за правонарушение, хотя, по ее утверждению, они с матерью полностью освободились от нравственных стандартов. Трудно однозначно определить отношение Хелен к матери в раннем детстве. Она рассказывала о своей «чрезмерной преданности» матери, но у меня возникло впечатление, что «преданность» была вымышлена на основе того факта, что в те годы Хелен считалась маминой любимицей. В ответах на тест Роршаха и в интервью присутствовали очевидные признаки враждебности и отвержения со стороны обоих родителей. Один из подобных ответов на тест был такой: «дети, до смерти пугающие своих родителей», другой ответ — «домовые с круглыми животами смеются от удовольствия, потому что они только что сыграли злую шутку, перепачкав пол в хозяйском доме». Судя по последнему ответу, ее беременность ассоциировалась с агрессией против матери. При повторном тестировании после родов враждебные, агрессивные элементы исчезли, и домовые теперь описывались как «грустные, но не злые». После родов уменьшились и враждебность, и агрессия по отношению к родителям. Сами собой напрашиваются некоторые гипотезы: либо перед родами Хелен была более тревожной и, следовательно, испытывала больше враждебности и агрессии, либо она использовала беременность как оружие против родителей, и после родов необходимость в нем отпала. Наконец, она могла считать родителей отчасти виновными в своих затруднениях. Прозвучавшая тема «нелояльности», вне зависимости от контекста, показывает сильное разочарование и обиду на мать. Гипотеза о том, что мать отвергала Хелен как в раннем возрасте, так и много позже, подтверждается объективными данными об импульсивности, непоследовательности и эмоциональной незрелости ее матери. Возможно, это отвержение было для Хелен еще более болезненным и психологически значимым в силу того, что она была одновременно «любимицей» своей матери. Мы поместили Хелен в категорию умеренно высокого родительского отвержения. Тест Роршаха выявил у Хелен неординарные, но используемые ею не в полной мере интеллектуальные способности, большую оригинальность, широту интересов и высокую, но импульсивную и не зависящую от интеллектуальных функций эмоциональную отзывчивость[433]. Собственная эмоциональность часто переживалась Хелен как беспокоящая и не поддающаяся контролю разума. Ответ «грязная мутная вода», который она давала на некоторые цветные карточки, живописно отображал ее восприятие своей эмоциональности, когда та вырывалась из-под контроля интеллекта. Признаками тревожности были легкий шок (частично связанный с сексуальными проблемами), большое количество многословных ответов и иногда неопределенность и уклончивость. Общая компульсивность (66 процентов) в ее протоколе указывает не только на неопределенность как признак тревожности, но и на интеллектуальные амбиции. Это был протокол ответов «яркой» личности, которой хочется все узнать. В этом массиве данных я могу отыскать три главные области сосредоточения тревоги. Первая — осуждение со стороны общества и чувство вины, вторая — соревновательные амбиции и третья — беременность и предстоящее рождение ребенка. В целом ее тревога была несистематической и непостоянной. Она была действительно глубока, но Хелен могла быстро справляться с ней. Ее основными методами защиты от страха были интеллектуализация, «отшучивание», отрицание и уклончивость[434]. По тесту Роршаха мы оценили параметры ее тревоги следующим образом: глубина — 4, широта — 2, способность к защите — 2. Хелен была отнесена к категории субъектов с умеренно высокой тревогой по сравнению с другими девушками. По результатам опросника тревога в детском возрасте была оценена как высокая по количеству проявлений. Она была связана главным образом со сферой амбиций и отношений со сверстниками и родителями. Предлагаю сначала рассмотреть тревогу Хелен, связанную с беременностью и предстоящим рождением ребенка. В шести ответах на тест Роршаха, где упоминались «Х — лучи» или «иллюстрации из книги по медицине», проявилась значительная тревога. Можно сделать вывод, что тревога была вызвана ожиданием родов, потому что при вторичном тестировании после рождения ребенка подобные ответы практически отсутствуют, да и сама Хелен связывает эти ответы со своей беременностью. После трех подобных ответов она извинилась: «Прошу прощения, это, должно быть, из-за моего состояния». Одна из ассоциаций в виде извергающегося вулкана (очевидно, символа родов) настолько выбила ее из колеи, что следующий ответ был заметно искажен. Важно отметить, что эти тревожные ассоциации интеллектуализировались, то есть подавались в «научном» контексте. Такие ответы обычно сопровождались натянутой, напряженной усмешкой и замечаниями, в которых звучали уклонение и отрицание («Я не должна об этом знать: я никогда не читала книг по медицине»). Можно было бы предположить, что «страх» Хелен перед рождением ребенка — это реальный страх, или нормальная тревога, поскольку ожидаемые роды могут оказаться трудными. Но есть несколько доводов против этого поверхностного вывода. Во-первых, ее мрачные предчувствия были несравнимы с переживаниями других девушек в аналогичных ситуациях. Очевидно, что рассказы девушек, вернувшихся из больниц, где роды принимались с учетом всех достижений современной медицины, не давали повода для столь сильных опасений или заострения внимания на всевозможных родовых муках, как в процитированном выше монологе[435]. Во-вторых, сознательное отрицание страха. Вспомним фразы, с которых началась ее первая речь: «Нет, у меня нет ни малейшего страха. Возможность смерти или перспектива заботиться о ребенке вызывают у меня только одну мысль: «Как драматично!» Сознательное отрицание вычеркивает ее страх из категории реальных. Я обозначаю его здесь как невротический страх. Ниже мы обсудим свидетельства в пользу того, что этот страх является фокусом невротической тревоги. В чем смысл этого страха и почему ее тревога сосредоточивалась именно на данном пункте — вот вопросы, к которым мы обратимся ниже, поскольку ответы на них основаны на понимании других аспектов паттерна тревоги у Хелен. Следующая область тревоги Хелен — осуждение обществом и чувство вины. Нас поразила противоречивость ее замечаний по отношению к чувству вины: ее интервью пестрели как указаниями на сильное чувство вины, так и его словесными отрицаниями. Ей казалось, что прохожие на улице смотрят на нее так, будто хотят сказать: «Иди домой, смотри не разродись на людях». Ей хотелось «после появления ребенка заползти в нору». Друг-журналист хотел навестить Хелен в «Ореховом доме», но она не смогла «вынести то, что он увидит ее позор». Но одновременно она делала напряженные усилия, чтобы скрыть чувство вины. Это стало очевидным на первом же интервью, когда Хелен без малейшего повода заявила о полном отсутствии у нее чувства вины, что предполагает действие механизма, описанного еще Шекспиром: «Сдается мне, леди протестует слишком много». Чувство вины в тесте Роршаха проявлялось в связи с сексом: при рассматривании карты IV, которая часто провоцирует ассоциации из области секса, напряжение в ее смехе слышалось сильнее обычного, и после каждого ответа она задумывалась, бормоча: «Это похоже на что-то еще, чего я никак не могу понять». Последний ответ на эту карточку (образ женщины в языческом храме) показывает, что Хелен была не так уж и свободна от прежней религиозности, как ей хотелось верить. Но в основном ее чувство вины и сопутствующей тревоги было связано с мнением о ней других людей: после ответа «две старые девы сплетничают и показывают пальцем на хорошенькую вдовушку» она выдала одну из своих типичных ассоциаций, относящихся к беременности. В опроснике детской тревожности тревога по поводу осуждения сверстниками была второй, а тревога в связи с неодобрением семьи — третьей по количеству проявлений. Для смягчения чувства вины она использовала те же механизмы, что и для избегания тревожности — стратегию отшучивания, преуменьшения важности события и попытки интеллектуализации и деперсонализации источника вины (например, «моя мать и я неморальны, а не аморальны»). Тревога Хелен по поводу осуждения обществом и чувство вины объединились в ее чувстве соперничества. В ее высказываниях прослеживались ассоциации между неодобрением, виной, потерей завоеванного статуса и власти в семье и среди друзей. Она твердо решила не сообщать родным о своей беременности, так как они возлагали на нее большие надежды и будут разочарованы и унижены. Следующим шагом она объявила, что не хочет давать им повод для «радости от того, что со мной случилось»; она хотела поддержать у них иллюзию, будто ведет роскошную жизнь в Нью-Йорке, и мечтала о том, как купит «шикарную одежду», вернется домой и поразит их (что предполагает наличие соревновательной мотивации). Та же связь между виной и потерей власти и престижа прослеживалась и в ее отношении к друзьям. Отец ребенка не должен был знать о ее беременности, иначе он бы не удержался от жестокого удовольствия рассказать об этом друзьям Хелен и унизить ее. В опроснике детской тревожности она отметила сильную тревогу в тех случаях, когда люди издевались над ней и выставляли ее на посмешище. Под страхом насмешек скрывалось убеждение: «Если у людей есть повод осуждать меня, они будут унижать меня, и я потеряю власть и престиж». Похожее слияние вины и соревновательных амбиций наблюдалось в ее многочисленных самоуничижительных комментариях во время интервью. Перед началом работы над тестом Роршаха она смущенно предупредила, что никогда не справлялась с тестами, а затем попыталась показать наилучший результат. В целом, многие самоуничижительные замечания Хелен были отчасти выражением вины, а отчасти способом обезоружить других и замаскировать соревновательную мотивацию, чтобы ее случайные успехи стали более заметны. Теперь мы можем выделить соревновательные амбиции как первичную и во многих отношениях наиболее ярко выраженную область тревоги Хелен. В отличие от отрицания чувства вины и опасений по поводу родов, Хелен открыто признавала, что соревновательные амбиции были для нее источником осознанной тревоги. В опроснике детской тревожности самый высокий балл стоял в графе успеха и неудачи в школе и на работе. Для оценки тревоги по поводу «провала на контрольной в школе» или «неспособности достичь успеха» она не просто поставила значок «часто», но сделала на этом пункте особое ударение, добавив несколько восклицательных знаков. Ее интеллектуализированные соревновательные амбиции проявлялись при тестировании не только в оценке «общей компульсивности», но и в настойчивом стремлении поставить рекорд, которое она рационализировала путем неточной интерпретации моих указаний («Вы ведь сказали, чтобы я давала все ответы, какие только возможно»). Наличие высокой соревновательной мотивации подтвердила и социальный работник, которую Хелен пыталась поразить своими рассказами об умственных способностях ее новых друзей в Нью-Йорке. Хелен осознавала, что сильная тревога по поводу завоевания статуса уменьшает продуктивность ее деятельности: «Я все время беспокоюсь об успехе, — заметила она, — и поэтому вчера вечером провалилась на пробах машинисток для газеты». Хотя ее чувство соперничества в основном затрагивало интеллектуальные способности, оно также распространялось и на ее физическую привлекательность. Напряженные отношения на почве соперничества сложились у Хелен только с Агнес, которая, по общему мнению обитателей приюта, была более миловидна, чем Хелен. Но Хелен по обыкновению скрывала свое стремление к соперничеству под фасадом небрежного самодовольства (которое само по себе было утонченным способом утверждения своего превосходства). Нетрудно понять, почему Хелен выбрала сферу интеллекта как главную область проявления своих соревновательных амбиций. В детстве она была не по годам развитым ребенком и за успехи в учебе пользовалась уважением среди родных. В периоды эмоциональной нестабильности и ссор в семье малолетняя Хелен могла принять на себя лидерство и осуществлять контроль над конфликтующими родителями, в глазах которых была «яркой личностью». Очевидно, что с самого раннего детства интеллектуальные способности рассматривались ею не только как способ завоевания высокого статуса, но и как особое средство контроля и смягчения конфликтных ситуаций. При такой высокой соревновательной мотивации можно предположить наличие сильной потребности в независимости и отчужденности от других людей; ведь человеку приходится оставаться в стороне, чтобы возвыситься над другими, а вовлеченность в близкие отношения может означать угрозу для безопасности. Есть свидетельства, что Хелен определенно нуждалась в такой независимости. Она сравнивала брак с «гирей на цепочке» и риторически вопрошала: «Что со мной происходит, отчего я чувствую отвращение к мужчине, как только он предлагает мне выйти за него замуж?» Она считала, что приятель расценил бы ее беременность как знак того, что она «попалась», и использовал бы это как дополнительный аргумент в пользу женитьбы. Ее потребность выглядеть независимой и никому не принадлежать проявилась также и в отказе принять от «Орехового дома» деньги на личные расходы, хотя она и дала понять, что нуждается. Общая оценка уровня тревожности Хелен была умеренно высокой. Оценка родительского отвержения была также умеренно высокой. Способы избегания тревоги, наблюдавшиеся в случае Хелен, заслуживают более подробного обсуждения. Как мы убедились, эти способы включают в себя интеллектуализацию, отшучивание, уклонение от ответа и полное отрицание, которое напоминает поведение испуганного страуса. Если они являются основными методами избегания тревоги у Хелен, то нам нужно обсудить два связанных с этим обстоятельства. Во-первых, можно предположить, что в периоды повышенной тревожности эти поведенческие формы избегания обнаруживаются чаще; и, во-вторых, после уменьшения тревоги количество проявлений механизмов избегания в поведении должно снизиться. Другими словами, чем более сильную тревогу испытывает человек, тем больше механизмов избегания вступает в действие, и наоборот. Наличие всех этих обстоятельств в случае Хелен было очевидным. Ранее мы уже отмечали, что в напряженные моменты тестирования Хелен натянуто смеялась, уклонялась от ответа и прибегала к интеллектуализациям. При повторном тестировании, когда после исчезновения беспокойства по поводу родов проявлялось меньше тревоги[436], поведенческие защитные механизмы также отсутствовали. Во втором протоколе число упоминаний об интеллектуализации и натянутом смехе значительно уменьшилось. Общая компульсивность снизилась с 66 до 47 %, значительно чаще описывались конкретные детали пятен, что является показателем уменьшения уклончивости. Снижение общей компульсивности также можно принять как показатель того, что она теперь меньше старалась реализовывать свои интеллектуальные амбиции. Ее интеллектуальные амбиции принимали компульсивную форму, когда использовались в целях избегания тревоги («Если я смогу достичь успеха с помощью своего интеллекта, то перестану тревожиться»), и, соответственно, исчезали вместе с тревогой. Интересно отметить, что техники отрицания тревоги и интеллектуализации у Хелен логически противоречат друг другу. В решительных попытках Хелен избежать тревоги по поводу беременности и родов заметен паттерн, который можно сформулировать так: «Если я стану отрицать тревогу, ее не будет» и в то же время: «Если я взмахну волшебной палочкой «научного» знания, тревога уменьшится». Последнее было явной попыткой подавления тревоги. Как заметил Салливан, у индивидуума имеются разные уровни сознания, и верхний уровень полного осознавания является лишь одним из многих. При изучении тревожных пациентов часто встречаются подобные явления: личность сознательно не признает тревогу, но всегда ведет себя так, как будто знает о ней, что означает процесс ее осознавания на других уровнях. На «глубинном» уровне Хелен осознавала тревогу, и именно на этом уровне был порожден метод интеллектуализации как способ отражения атак тревоги (например, «научные» ответы на тест Роршаха и псевдонаучные дискуссии с молодыми женщинами). Прямое отрицание и интеллектуализация имели одну общую черту — игнорирование собственного эмоционального мира. Описанные методы избегания тревоги у Хелен типичны для нашей культуры. По-моему, паттерн Хелен совпадает с преобладающим в современной западной культуре паттерном (см. главу 2), для которого характерны специфический источник тревоги и методы ее избегания. Мы обнаружили у Хелен дихотомию между эмоциями и интеллектуальными функциями и попытку контролировать эмоции с помощью интеллекта; когда этот контроль оказывался неэффективным (например, когда Хелен была эмоционально вовлечена в ответы на тест Роршаха), она чувствовала себя расстроенной. «Быть вовлеченным значит быть расстроенным» — это интересная формула, которая заучивается в нашей культуре. Ранее мы обсудили присущую нашему обществу тенденцию отрицать тревогу, потому что она кажется «иррациональной». В этом отношении очень важно, что Хелен старательно отрицала два важнейших аспекта своей эмоциональной жизни — тревожность и чувство вины. Отрицание и интеллектуализация в нашей культуре являются двумя сторонами одного паттерна, так было и в случае с Хелен: если тревогу и вину нельзя отрицать, они должны быть рационализованы; соответственно, если они не могут быть рационализованы, они должны отрицаться[437]. Принятие тревоги по поводу родов было для Хелен как признанием своей неудачи (взмах «волшебной палочки» науки должен рассеивать тревогу), так и серьезной угрозой для механизмов защиты. Аналогично, признание чувства вины по поводу беременности означало для Хелен провал попытки стать интеллектуально «независимой». Мои размышления, предваряющие это исследование, касались подавления и отрицания тревоги по причине ее кажущейся иррациональности. Теперь я выдвигаю предположение, что подавление чувства вины попадает в ту же категорию и также представляет собой особую тенденцию в нашей культуре. Хелен является типичным представителем нашей культуры также и в том, что область успеха и неудачи была единственной областью возникновения тревоги, которую она могла сознательно и свободно признавать. Очевидно, школьный опыт научил ее, что соперничество и признание своего беспокойства об исходе соревнования считается достойным и естественным. Теперь перед нами встает один интересный вопрос: почему же Хелен так боялась родов? Я утверждаю, что этот невротический страх является фокусом тревоги, возникшей на основе подавленного чувства вины за беременность. Разговоры о «прохождении всех кругов ада» во время рождения ребенка и ассоциация родов с «умиранием» свидетельствуют о ее чувстве вины (Хелен считает себя «грешницей») и ожидании наказания. Видимо, в действие вступает формула: «Я поступила неправильно, и я буду наказана». Хорошо известно, что подавляемое чувство вины провоцирует тревогу. Можно с большой вероятностью предположить, что именно такая тревога проявилась у Хелен в преувеличенном страхе перед родами. Но почему же ее тревога сфокусировалась именно на родах и ни на чем ином? Я предполагаю, потому, что именно в этом месте ее привычные защитные механизмы не срабатывали. Несмотря на попытки думать, что она не была беременна («Пока ребенок не родится, я буду считать, что я не беременна»), даже человек с более серьезными психологическими нарушениями, чем у Хелен, не мог полностью игнорировать факт округления живота (вспомним ее «домовых»). Для Хелен было очевидно, что ее живот увеличивается независимо от того, разрешает ли она себе это чувствовать. Роды были той точкой, в которой интеллектуализация и подавление оказались неэффективными, и защитные механизмы рассыпались вдребезги в силу того, что рождение ребенка — это переживание, в котором чувства и эмоции слиты воедино. Нэнси: столкновение ожиданий с реальностью Мать девятнадцатилетней Нэнси развелась с ее отцом, шофером, когда Нэнси было два года, а еще года через два вышла замуж за музыканта, по словам Нэнси, «очень интеллигентного, совсем как моя мама». До двенадцати лет Нэнси жила с матерью и отчимом в пригороде, который населяли в основном люди среднего класса, и со своих теперешних позиций очень высоко ставила их культурный уровень, «наш замечательный домик и приличное воспитание, которое я получила за это время». Когда ей исполнилось шестнадцать, мать разъехалась с отчимом, про неуравновешенное поведение которого Нэнси выразилась так: «Это для меня уже слишком». Тогда же она оставила мать, ушла из школы после окончания девятого класса и начала работать — сначала клерком, затем кассиром, а потом модисткой. Друзья Нэнси, ее работа и повлиявшие на нее моменты прошлого позволяют отнести ее к среднему классу. Она объяснила, что вступила во взаимоотношения с отцом своего ребенка не столько из-за «любви» или сексуального влечения, сколько из-за собственного одиночества в Нью-Йорке. Через него она познакомилась с другим молодым человеком, полюбила его и на данный момент была с ним помолвлена. Нэнси придавала очень большое значение хорошему образованию и родственным связям своего жениха, отец которого занимал высокую должность на факультете университета. Жених знал о ее беременности, относился к этому с пониманием и после свадьбы собирался усыновить ее ребенка. Тем не менее, сама Нэнси решила отдать ребенка на усыновление. Своей уравновешенностью, ответственностью, добросовестностью, деликатностью и умением избегать конфликтов в отношениях с окружающими Нэнси произвела в высшей степени благоприятное впечатление на всех обитателей «Орехового дома». Социальный работник охарактеризовал ее как «одну из самых милых девушек, какие только бывали в «Ореховом доме». Она была внешне привлекательна, общительна, отличалась манерами хорошо образованной девушки и во время первых интервью казалась уравновешенной, открытой и не выказывала ни малейшего признака переполнявшей ее тревоги, которая обнаружилась позднее. Поведение Нэнси и мои беседы с ней позволили выяснить, что ее безопасность и способность дистанцироваться от тревоги почти полностью зависят от уверенности в том, принимают ли ее другие люди. Она сильно беспокоилась по поводу дальнейшего развития своих взаимоотношений с родителями жениха и утешала себя тем, что сейчас они вроде бы хорошо к ней относятся. Ее обычные замечания в их адрес, как и в адрес других уважаемых ею людей, звучали следующим образом: «Они такие милые люди, и они меня любят». В каждом письме жениха Нэнси искала подтверждения того, что он все еще любит ее. Она подчеркивала, что может чувствовать себя в безопасности перед лицом всех свалившихся на нее трудностей только благодаря его поддержке: «Если что-то случится и он меня разлюбит, то я немедленно сломаюсь». Критерием любви жениха или кого-либо еще была возможность положиться на этого человека. Она верила, что может положиться на своего жениха, и утверждала обратное в отношении матери и своего первого приятеля. Хотя Нэнси была в дружеских отношениях со всеми, она очень осторожно подходила к выбору настоящих подруг, потому что «на большинство девушек нельзя положиться, когда потребуется помощь». От нее никогда не слышали слов, выражающих рвущиеся наружу аффективные чувства по отношению к значимым для нее людям. Даже ее эмоциональные реакции в адрес жениха не вписывались в общую картину, поскольку ограничивались туманными фразами о том, что она его любит. Для Нэнси были важны не ее чувства к другим людям, а «любовь» другого человека к ней в том смысле, что он ее не отвергнет. Таким образом, «любовь» для Нэнси была, по сути, способом обретения безопасности, с помощью которого она удерживала тревогу на почтительном расстоянии от себя. Ее поведение представляло собой совокупность тщательно разработанных способов ублажения окружающих и поддержания с ними доброжелательных отношений. При опоздании на беседу она пускалась в ненужные извинения, а когда кто-то оказывал ей помощь, рассыпалась в излишних благодарностях. В одном из интервью с социальным работником Нэнси позволила себе чуть повысить голос, пытаясь избежать обсуждения своего детства; на следующий день она, ужасно обеспокоенная, специально зашла в офис социального работника, чтобы узнать, не обиделся ли тот. Она никогда не позволяла себе делать выпады в адрес других людей и даже своего отчима, который часто давал ей для этого повод. У Нэнси была формула: «Раз уж приходится жить вместе с людьми, нужно с ними ладить». Ее постоянные утверждения, что одиночество являлось единственным мотивом для интимной связи и сексуальных отношений с первым приятелем, можно интерпретировать следующим образом: Нэнси использовала секс, чтобы доставить ему удовольствие и таким образом удержать его возле себя. Ее очень расстраивала необходимость кого-то обманывать. Она несколько раз повторяла, что когда-нибудь расскажет будущей свекрови всю правду о своей беременности, потому что не может выносить разделяющую их ложь, хотя в данный момент это и не было объективной проблемой. В юности Нэнси часто получала от отчима деньги на карманные расходы; она ни разу не могла утаить это от матери, хотя знала, что мать отнимет у нее все деньги и потратит их на спиртное. Все это позволяет нам обрисовать Нэнси как личность, для которой любое отвержение является серьезной угрозой и которая должна поэтому ублажать окружающих всеми возможными способами. Ее безопасность в межличностных отношениях была столь хрупкой, что малейшая агрессия, злая воля, ссора или ложь, пусть даже оправданная, могли ее разрушить, а за этим последовал бы приступ невыносимой тревоги. Позже, по результатам теста Роршаха, мы убедились, что добросовестность в работе была для Нэнси способом добиться принятия. Хотя у нее никогда не было проблем с поступлением на работу и сохранением рабочего места, она всегда беспокоилась об этом и считала, что при малейшей оплошности ее уволят. «Всегда найдутся желающие занять твое место, если ты вдруг не удержишься на цыпочках». Повторяющееся выражение «удержаться на цыпочках» очень удачно описывает данный вид тревоги, при котором индивидуум пытается избежать несчастья, постоянно поддерживая себя в состоянии напряженного равновесия. Теперь давайте углубимся в рассмотрение детства Нэнси как источника этого паттерна тревоги. Ее воспоминания — это кусочки мозаичного портрета ребенка, за которого мать крепко цеплялась и в то же время сурово отвергала. По рассказам тети Нэнси знала, что для ее матери как до развода, так и после разъезда с мужем было нормальным оставлять двухлетнюю дочь дома одну. Одно из самых ранних воспоминаний Нэнси касалось того, как отец похищает ее, трехлетнюю, из дома матери, где она была оставлена в одиночестве. Когда они ехали в такси домой к отцу, Нэнси отчаянно кричала и звала маму. Затем мама пришла с полицейским, чтобы вернуть ребенка. Нэнси поделилась и множеством других детских воспоминаний, в каждом из которых присутствуют следующие элементы: (а) мать оставляла Нэнси одну; (б) без должного присмотра Нэнси получала телесные повреждения (например, падала с лестницы в погребе); (в) мать возвращалась домой, но была в «невменяемом состоянии». Нэнси пояснила: «Моя мама больше занималась хождением по барам, чем своими детьми». Понятно, что и во втором браке мать продолжала отвергать ребенка, хотя и в меньших масштабах. Следующий за этим период, когда «у нас был замечательный домик в пригороде», был для Нэнси временем счастливого детства в Эдемском саду. При рассмотрении своего прошлого она связывает начало настоящих неприятностей с уходом из дома в возрасте двенадцати лет.
Нэнси не осуждала мать за аморальность, а обвиняла только в том, что на нее стало невозможно положиться. Нэнси не уточнила, что значит «стала совсем плоха». В этом месте интервью она возвратилась к воспоминаниям: «Но когда мы жили в пригороде, она была такой хорошей матерью». Нэнси очень не любила рассказывать о своем детстве, чувствовала при этом дискомфорт, хваталась за сигарету и заявляла, что такие разговоры смущают ее и заставляют «нервничать». Она заметила, что может припомнить только события, но не чувства, и добавила: «Странно: вы должны думать, что я помню свои чувства к маме, судя по тому, как я нуждалась в ней в детстве». В этом проявлялась ее потребность блокировать не только аффект, связанный с отвержением в детском возрасте, но и аффект, вызванный рассказом об этих событиях. При рассказе об отвержении эмоциональная вовлеченность и «нервозность» полностью выбили ее из колеи. В течение следующих двух бесед она старательно сдерживала себя и старалась не показывать больше никакой эмоциональной вовлеченности. Думаю, читателю уже стало понятно, что в описании Нэнси своего детства содержалось явное противоречие. Именно это противоречие, заключающееся в амбивалентном отношении к матери, очень важно для нас. С одной стороны, Нэнси совершенно справедливо чувствовала, что в детстве испытывала крайне болезненное для нее отвержение. Но, с другой стороны, она явно старалась идеализировать мать и некоторые моменты своего прошлого. Погружаясь в воспоминания, она вновь и вновь возвращалась к рассказам о «замечательном домике, который был у нас в пригороде, и ведущей к нему узкой коричневой дорожке», перемежая их утверждениями: «В то время моя мама была такой хорошей мамой». Романтические повествования о «замечательном домике в пригороде» я рассматриваю как символ идеализации ее отношений с матерью. Когда во время беседы Нэнси приближалась к детским воспоминаниям о тягостных для нее событиях, она всегда предваряла их словами тщетной, но неослабевающей надежды: «Но моя мама могла бы быть такой хорошей матерью». Эти слова были магическим заклинанием, талисманом первобытного человека, амулетом от злых сил. Как мы выяснили, мать многократно оставляла Нэнси одну даже во время их проживания в пригороде, хотя, возможно, и не так часто, как бывало до или после этого. Во всяком случае, нельзя признать объективным то утверждение, что ее мать в какой-то период времени была «хорошей» (психически уравновешенной), а все остальное время «плохой»: само по себе это утверждение предполагает значительную непоследовательность в поведении матери. Справедливость вывода подтверждается тем, что Нэнси обращалась к теме «хорошей» матери и «счастливого» детства, потому что не могла лицом к лицу встретиться с отвержением со стороны матери и со своими чувствами по этому поводу. Слова о том, что мама могла бы быть хорошей, повторяются в тягостные для Нэнси моменты беседы, что подтверждает вывод об идеализации матери с целью прикрытия реальности их действительных взаимоотношений. К выполнению теста Роршаха Нэнси подошла со свойственной ей сверхстарательностью, которая кажется мне попыткой завоевать признание. Она проявила себя как разумная, оригинальная личность с выраженным неврозом тревожности такого типа, при котором «тревожное отношение» к жизни полностью принимается и так хорошо систематизируется, что это производит внешнее впечатление «успешности» в межличностных отношениях[438]. Интересной особенностью результатов ее теста Роршаха было большое количество описаний мелких деталей (36). Обычно она двигалась по периферии пятна, отмечая все мелкие детали по очереди, и старалась придерживаться именно этой стратегии, опасаясь соскользнуть в описание самого пятна. Образно говоря, это характерно для идущего по краю пропасти человека, который старается очень осторожно переступать с камня на камень, чтобы не упасть. Поведение Нэнси при тестировании напоминает поведение гораздо более патологичных пациентов Гольдштейна, которые подписывали свои имена в самом углу листа, потому что любое отступление от четко заданных границ несло в себе серьезную угрозу. В очертаниях пятен она видела главным образом лица, что снова наталкивает на мысли о связи тревоги Нэнси с ее озабоченностью другими людьми и их мнением о ней. Судя по протоколу, перед нами была изолированная личность с почти полным отсутствием спонтанных аффективных реакций на других людей. Она подавляла неосознаваемые, идущие из глубины импульсы, хотя «внутренняя» активность явно присутствовала. Таким образом, тест Роршаха подтвердил заявление Нэнси, что сексуальные отношения, окончившиеся беременностью, мотивировались чем-то иным, нежели «любовью» или физическим влечением. Некоторые ответы на тест вызывали у нее эмоциональные реакции, при этом стратегия приверженности мелким деталям («чтобы не упасть») нарушалась, что влекло за собой сильную тревогу. Видимо, подавление эмоций выполняло функцию защиты от тревоги в ситуациях эмоциональной вовлеченности, связанных с другими людьми. Яркий цвет на карточке II настолько сбил с толку Нэнси, что она выдала на редкость обобщенный, но ужасно искаженный и сбивчивый ответ, после чего немедленно бросила карточку и схватилась за следующую. Реакция при виде полностью окрашенных карточек (VIII) была аналогичной, хотя и не такой сильной. Записи в протоколе констатировали наличие многочисленных амбиций: она вымучивала как можно больше ответов, стремилась описать все увиденное (как будто должна была рассказать обо всем, не забыв ни единой детали), хотела показать выдающиеся результаты и проявить оригинальность. Такой перфекционизм был отчасти способом обретения безопасности через внимание к деталям, когда она могла проявить свою дотошность и аккуратность, а отчасти попыткой обеспечить себе принятие и одобрение исследователя. Ее амбиции не были направлены на обретение власти над другими (как в случае Хелен), а служили способом заполучить принятие: «Если я справляюсь хорошо, если я кому-то интересна, меня не отвергнут». Оценка ее тревожности по тесту Роршаха была выше, чем у всех остальных исследованных молодых женщин: глубина — 3, широта — 5, способность к защите — 1. Нэнси заполняла опросник по тревожности с такой же тщательной аккуратностью, подолгу размышляла над каждым пунктом («Я не хочу заполнять, пока не буду уверена»), возвращалась к некоторым пунктам и проверяла правильность заполнения. Она оценила тревогу в детском возрасте как высокую, тревогу на данный момент как умеренно высокую и тревогу в будущем — как низкую. Главными областями тревоги по всем трем листам были успех и неудача в работе и мнение сверстников. В ее поведении при заполнении опросников был замечен интересный феномен, который частично объясняет снижение уровня тревоги в будущем. Каждый пункт опросника ставил Нэнси перед дилеммой и заставлял подолгу размышлять. Ей было очень трудно отделить себя от своей тревоги, чтобы понять, беспокоится ли она по данному поводу. Видимо, у нее был такой критерий: если она могла справиться со своей тревогой по конкретному поводу, то отмечала, что для нее подобные события не были источником тревоги, хотя ее наличие явно предполагалось самим фактом защиты. Тревога в будущем еще не заявила о себе как непреодолимая, поэтому соответствующие пункты заполнялись не столь часто. В целом уровень тревожности Нэнси можно оценить как высокий. В ее случае наблюдается тот тип невроза тревожности, который характеризуется «тревожным отношением» к жизни, в результате чего практически все мысли или действия мотивируются тревогой. Нэнси стремилась не избегать тревоги, а скорее удерживать ее на некотором расстоянии. Она жила в постоянном ожидании чего-то дурного и все время старалась поддерживать необходимое равновесие в отношениях с людьми, чтобы не допустить катастрофы (в данном случае — отвержения). Можно сказать, что в данном случае не у личности есть тревога, а «у тревоги есть личность». Подобное разделение между избеганием тревоги и дистанцированием от нее может показаться странным. Но на самом деле это разделение проводится по той причине, что при данном неврозе тревога настолько пронизывает все формы реагирования индивидуума и все способы ориентации в текущем опыте, что он или она не может настолько отделить себя от тревоги, чтобы защититься или освободиться от нее. Нэнси мечтала лишь о том, чтобы не упасть при прыжках с камня на камень, а возможность отойти от края пропасти ею вообще не рассматривалась. С объективной точки зрения, для удержания тревоги на расстоянии Нэнси использовала такую систему методов, как ублажение окружающих, избегание разногласий и старательное выполнение работы. У нее была цель стать принимаемой и «любимой», поскольку в таких условиях она временно чувствовала себя в безопасности. Эти методы были чрезвычайно эффективны в том смысле, что ей удавалось стать всеобщей любимицей; но обретенная таким образом безопасность была очень ненадежна, и Нэнси постоянно ждала, что завтра ее отвергнут. На субъективном уровне методы Нэнси служили избеганию эмоциональных конфликтов, идеализации ситуаций тревоги и подавлению аффектов, связанных с отвержением в детстве[439]. Метод избегания эмоциональных конфликтов был недостаточно эффективен, поскольку безопасность Нэнси почти полностью зависела от мнения окружающих. Здесь имеется противоречие: вы не можете избегать эмоциональных конфликтов и одновременно полностью зависеть от того, что о вас думают другие люди[440]. Из сказанного понятно, что у Нэнси не было эффективной защиты от тревожных ситуаций. Ее единственная защита состояла в том, чтобы тревожиться, то есть все время держаться «на цыпочках» и жить в состоянии постоянной готовности. Вместе с высоким уровнем тревоги мы обнаружили у Нэнси высокую степень материнского отвержения. Отвержение со стороны матери не принималось ею как объективная реальность. Скорее, оно бок о бок сосуществовало с идеализированными ожиданиями, которые мы усмотрели в заклинаниях, каждый раз произносимых Нэнси в ситуациях тревоги. Следовательно, отвержение привело к возникновению субъективного конфликта. Чувства отверженности и идеализации матери усиливают друг друга, хотя и кажутся противоположными. Чувствуя себя отвергнутой, она больше стремилась к идеализированному принятию матери. В свете идеализированного образа того, какой «могла бы» быть ее мать, материнское отвержение воспринималось как более болезненное. Тогда ее чувства по поводу отвержения подавлялись и, следовательно, усиливались. Случай Нэнси показывает, насколько важно то, каким образом сам ребенок интерпретирует лежащее в основе невротической тревоги отвержение. Объективное отвержение (которое необязательно влечет за собой возникновение субъективного конфликта) и субъективное переживание неприятия кардинально различаются по своему воздействию на ребенка. Важный психологический вопрос заключается в том, чувствует ли ребенок себя отвергнутым. Очевидно, что Нэнси глубоко переживала это неприятие, хотя объективно ее отвергали не так сильно, как других девушек (Луизу или Бесси), которых, однако, отвержение мало заботило. Я убежден, что только факт идеализации матери позволяет понять, почему Нэнси придавала отвержению такое огромное субъективное значение. Конфликт, скрытый под невротической тревогой Нэнси, проистекал из разрыва между ожиданиями и реальностью. Этот конфликт, с одной стороны, принял форму чрезмерной зависимости от окружающих (от их принятия и симпатии к ней), что позволяло ей чувствовать себя в безопасности; но, с другой стороны, в душе она была уверена, что на них нельзя положиться и они отвергнут ее. В своей первоначальной форме этот конфликт проявился в ее отношении к матери, а в настоящее время мы наблюдали его в отношении к жениху и ко всем окружающим. Для более конкретной формулировки конфликта Нэнси требуются психоаналитические данные о ее неосознаваемых паттернах, но наши методы не позволяют получить подобные сведения. Впрочем, можно выдвинуть вполне резонное предположение, что индивидуум, который настолько зависит от других людей, но не может на них положиться, настроен по отношению к ним достаточно враждебно. Понятно, что такая тревожная личность полностью подавляет эту враждебность. Агнес: тревога, связанная с враждебностью и агрессией После того как Агнес в четырнадцать лет ушла из дома отца, она работала танцовщицей в ночном клубе, пока ей не исполнилось восемнадцать. Судя по всему, перед нашим первым интервью она потратила на макияж несколько часов, и я был, можно сказать, поражен результатом. Длинные черные локоны и ярко-голубые глаза делали ее внешность очень экзотической. Но выражение лица Агнес не соответствовало ее внешнему виду: при первом интервью со мной и во время беседы с социальным работником она, казалось, сдерживала глубокий ужас. Ее глаза были широко раскрыты, жесты — резкие и нервные, она никогда не улыбалась, хотя время от времени можно было услышать ее металлический смех. При первых интервью создалось впечатление, что Агнес осознанно или неосознанно страдает от чьих-то нападок. Во время пребывания в «Ореховом доме» ее ожидание агрессии в свой адрес приняло форму фобической тревоги: всякий раз, когда нянечка давала ей аспирин, Агнес внимательно рассматривала его в предчувствии, что ее отравят. Позже, обсуждая со мной эту и другие фобии, Агнес поняла их иррациональность. Она рассказала, что в ее комнате в «Ореховом доме» или в метро с ней часто случалась «клаустрофобия», которая ассоциировалась с травматическими детскими переживаниями, когда мачеха, «устав шлепать, запирала ее в чулан». Мать Агнес умерла, когда ей был год от роду. После этого Агнес жила в католической семье с отцом и мачехой, а когда ей исполнилось тринадцать лет, мачеха умерла. Потратив год на ведение хозяйства в доме отца, она ушла от него: отец беспробудно пил и совершенно не заботился о ней. Агнес несколько сомневалась, были ли отец и мать ее настоящими родителями; ее сомнения разделяли и социальные работники «Орехового дома», располагавшие скудными официальными данными о ее рождении. Братьев и сестер у нее не было. Когда Агнес было восемь лет, отец и мачеха усыновили второго ребенка, но она так яростно запротестовала, что они вернули мальчика в детский дом. После ее прибытия в «Ореховый дом» физиолог обнаружил у нее врожденный сифилис: ее показатель по тесту Вассермана был +4. Агнес довольно трудно отнести к определенному социоэкономическому классу; ее отец часто менял работу, а в настоящее время служил поваром в ресторане. Во время проживания в «Ореховом доме» у нее появилась цель оставить шоу-бизнес, поступить в школу искусств и стать коммерческим художником. Опираясь на цели Агнес, а также на социоэкономический статус ее друзей, мы остановились на среднем классе. Она была беременна от женатого мужчины значительно старше ее, с которым познакомилась во время работы в шоу-бизнесе. Поскольку Агнес, по ее собственному утверждению, «любила» его, она охотно вступила с ним в отношения, длившиеся около полугода. По отношению к другими молодым женщинам в «Ореховом доме» она проявляла сильную открытую враждебность и презрение и вовсе не пыталась быть дружелюбной. В результате девушки были настроены против нее и часто ее поддевали, в ответ Агнес принимала надменный вид. Ее настроение во время жизни в приюте колебалось от мрачной погруженности в себя до внезапных вспышек гнева. Многое свидетельствовало в пользу того, что Агнес постоянно боролась за верховенство и власть над другими людьми. Она говорила, что восхищается силой, особенно в мужчинах. Она презирала отца за так называемую слабость к алкоголю, презирала мужчин в ночных клубах, которые «гнули линию, что моя-жена-меня-не-понимает». Ее отношение к Бобу, отцу ребенка, было в целом агрессивным: она «наймет адвоката и разорит его», если он не будет поддерживать ее во время беременности. Тем не менее, когда Агнес выходила с ним на прямой контакт, ее агрессия маскировалась стратегией женской слабости; все сознательно продумав, она плакала по телефону, стараясь убедить его в своей «беспомощности», и, по собственным словам, играла «роль мученицы» («посмотри, как я страдаю»). Но когда Боб периодически присылал ей чек, ее временно переполняли аффективные чувства и она говорила, что слишком строго судила о нем. Свою экзотическую красоту она тоже ставила на службу агрессивным целям: перед обедом с Бобом (или в дни наших интервью) она часами приводила себя в порядок, чтобы выглядеть как можно привлекательнее. Эта процедура странно напоминала приготовления к войне. После родов она упивалась чувством триумфа от того, что в магазинах производила «сенсацию» своей ошеломляющей внешностью. Эти специфические проявления агрессивной борьбы за власть над другими людьми вписываются в садомазохистский паттерн, который также будет заметен в тесте Роршаха. Сначала Агнес отказывалась реалистически взглянуть на факт своей беременности. Очевидно, она чувствовала себя из-за этого слабой жертвой и не могла вооружиться своей привлекательностью как средством для агрессии. Но вскоре она включила будущего ребенка в свой садомазохистский паттерн и стала постоянно рассуждать о материнской ответственности. (Поэтому остальные молодые женщины обращались к ней «мадонна»). После рождения ребенка она стала относиться к нему как к «игрушке», как продолжению себя, и подчеркивала, что теперь наконец у нее есть тот, кому она может принадлежать. Такое отношение к ребенку сопровождалось полным отсутствием реалистичных планов на его будущее. Теперь и он служил орудием агрессии против Боба; Агнес утверждала, что ребенок — это то, за что «можно побороться». Понятно, что Агнес испытывала отвержение со стороны родителей. Наряду с ее сомнениями в том, были ли они ее настоящими родителями (что символически значимо и, возможно, фактически достоверно), имеются многочисленные данные об ее прохладных и обоюдно враждебных отношениях с мачехой. Отец всегда отличался безразличным отношением к Агнес и ее способностям. Вплоть до настоящего времени Агнес стремилась пробиться сквозь это безразличие. После родов она отправилась в соседний город повидать отца, якобы с целью получить фактические сведения о своем рождении, а на самом деле — чтобы заставить его в кои-то веки проявить к ней хоть каплю интереса. Ее потребность в заботе символически выражалась в надежде на то, что он даст ей немного денег. Я утверждаю, что деньги были «символом», потому что в то время Агнес не особенно нуждалась и, более того, установленная ею сумма (пять долларов) никакой погоды реально не сделала бы. Перед поездкой она выразила убеждение, что отец не «раскошелится», т. е. не даст ей материального подтверждения своей заботы. После поездки она рассказала, что он с удовольствием хвалился перед своими коллегами тем, какая у него симпатичная дочь, но в остальном, как всегда, выражал полнейшую незаинтересованность в ней. На интервью в «Ореховом доме» Агнес постоянно говорила о своем одиночестве: «Я никогда никому не принадлежала». Даже с учетом ее склонности к драматизации можно сделать вывод, что она всегда была очень изолированной личностью. Мы относим Агнес к категории высокого родительского отвержения. Основными характеристиками ее теста Роршаха были сильная агрессия и враждебность[441]. Почти каждый ответ, где фигурировали человеческие существа, представлял собой описание дерущихся людей или чудовищ с человеческими чертами. Чудовища появлялись в сексуальном контексте; предположительно, секс у нее ассоциировался со зверской агрессией против нее. Хотя глубинные фантазийные импульсы находили у Агнес достаточное выражение, она подавляла инстинктивные побуждения и сексуальные влечения, дабы избежать судьбы жертвы агрессии. Тест Роршаха показал, что чрезмерные враждебные и агрессивные тенденции (потенциальные и актуальные) буквально влекут ее за собой, и они вышли бы из-под ее контроля, если бы хоть частично не подавлялись. Кроме того, присутствовала значительная эмоциональная возбудимость, особенно в нарциссической форме. В целом, в ее тесте Роршаха обнаружился садомазохистский паттерн. Агнес пыталась сбежать от своей враждебности и агрессивности под защиту воображения, абстракций и морализма, т. е. агрессия выглядела как битва между «добром и злом». Хорошие умственные способности использовались ею для удовлетворения своих агрессивных амбиций путем контроля над окружающими. В ее случае враждебность и агрессивность были сопряжены с тревогой, главным образом вызванной ожиданием агрессии в свой адрес, а это ожидание, в свою очередь, чаще всего было ее проекцией собственных враждебных и агрессивных чувств. Основным способом борьбы с тревогой была ответная агрессия и враждебность. Оценка параметров тревожности Агнес по тесту Роршаха была такова: глубина 21/2, широта 41/2, защита 41/2, что позволяет отнести ее к категории высокой тревожности по сравнению с другими девушками. Агнес оценила свой уровень тревоги в детстве как умеренно низкий, а в будущем — как умеренно высокий. Главными областями тревоги были амбиции и опасения фобического характера. Случай Агнес может многое рассказать нам о связи тревожности с агрессией и враждебностью. Во-первых, ее тревога была реакцией на ситуации, в которых она усматривала угрозу открытого нападения со стороны окружающих. Видимо, ее ужас на первых интервью в «Ореховом доме» объясняется именно так. Понятно, что реакция тревоги Агнес на такую угрозу сопровождалась ответной враждебностью и агрессией, которую она хоть и не направляла на меня и социального работника «Орехового дома», но вымещала на остальных молодых женщинах. Во-вторых, ее тревога была реакцией на угрозу быть отвергнутой и остаться в одиночестве. Враждебность и агрессия, связанные с реакцией тревоги, — знакомый нам паттерн озлобления на тех лиц, от которых исходит возможность болезненной изоляции и тревожности. Случай Агнес демонстрирует еще и третий, менее распространенный аспект взаимосвязи тревоги с враждебностью и агрессией: она использовала враждебность и агрессию как метод избегания ситуаций тревоги. Это не совсем обычная модель поведения: у других девушек мы наблюдали попытки избегания тревоги путем дистанцирования или ублажения окружающих и угождения им. Именно в периоды тревоги поведение большинства девушек наименее агрессивно — дабы не отвратить от себя людей, от которых они зависят. Тем не менее Агнес руководствовалась формулой, что, нападая на других, она может побудить их не отвергать ее и не давать ей повода для беспокойства. Это можно яснее увидеть при дальнейшем рассмотрении ее поведения по отношению к отцу ребенка. В общем ее отношение к Бобу можно представить так: «Он отвергает меня — значит, он пытается сбежать, как и все мужчины». Всякий раз, когда он отвергал ее (т. е. не высылал ей чек), она била тревогу и вспыхивала дикой яростью: «Я не позволю ему сбежать от расплаты». Она чувствовала удовлетворение и облегчение тревоги, когда после решительных разговоров по телефону Боб высылал ей деньги, хотя на самом деле сумма была столь ничтожна, что особой роли не играла. Дело было не в деньгах как таковых (Агнес могла бы получить их от «Орехового дома»), а в том, что он должен был показать ей свою заботу. Интересен тот факт, что в спорах Агнес с Бобом и с отцом деньги выступают как символ заботы. В ее понимании «любовь» состояла в отдаче, и ее представление о возможности получать от других «заботу» заключалось в отбирании у них чего-либо. Пример Агнес может пролить свет на явление тревоги во всех садомазохистских случаях: облегчение тревоги наступает не только тогда, когда привязывают к себе окружающих с помощью симбиотических отношений, но и обретают контроль, возвеличивают себя или порабощают других своей волей. По сути, методы избегания тревоги неизбежно оказываются сопряженными с агрессией, если человек не может найти иной способ ослабления тревоги, кроме использования окружающих в своих целях. В случае Агнес мы наблюдали высокий уровень тревожности и высокую степень родительского отвержения. Связь ее теперешнего паттерна тревожности и ранних отношений с родителями была показана на многих разных примерах, один из которых — фобическая тревога, ассоциирующаяся с взаимной враждебностью и агрессией в отношениях с мачехой. Другой пример: вызывающий тревогу паттерн отношений с отцом ее ребенка очень сильно напоминал паттерн отношений с ее собственным отцом. Нужно подчеркнуть, что Агнес, так же как Нэнси и Хелен, не смогла реалистически принять отвержение со стороны отца. С горем пополам она сформировала достаточно противоречивый взгляд на отца, в котором субъективные ожидания не согласовывались с ее знанием реальной ситуации их взаимоотношений. Здесь мы видим уже обсуждавшийся ранее разрыв между ожиданиями и реальностью. Этот разрыв наиболее ярко выразился в ее поездке к отцу с целью заставить его проявить к ней заботу, хотя она знала, что на самом деле он не изменился. Агнес также продемонстрировала нам взаимосвязь тревоги с агрессией и враждебностью. Она тревожилась от ожидания направленной на нее враждебности и агрессии (кристаллизация фобии), что, в свою очередь, через механизм проекции связывалось с ее собственной враждебностью и агрессией в адрес окружающих. Этот паттерн может принимать бесчисленное количество едва различимых форм. Враждебность и агрессия служили выражением садомазохистской структуры характера Агнес, которая обусловливала интерпретацию вызывающих тревогу ситуаций с позиции жертвы. Как следствие, она применяла собственную агрессивность и враждебность, для того чтобы убежать, спастись от роли жертвы. Но в ее жизни, да и в жизни вообще, бегство не помогает. Итак, основными механизмами защиты от вызывающих тревогу ситуаций у Агнес были враждебность и агрессия — стремление возвыситься над другим человеком, стать победителем, а не жертвой. В связи с этим она воспринимала отвержение себя другими как их победу над собой, а свою способность поддерживать с ними симбиотические отношения — как свой триумф, подчинение их своей воле. Понятно, что такой паттерн способствует возникновению сильной тревоги, потому что она ожидала от других людей того же, что и сама пыталась с ними проделать. Примерами сильной тревоги являются ее ужас при первых интервью и фобия во время проживания в «Ореховом доме». Возникает следующий вопрос: можно ли в случае Агнес обнаружить какие-либо причины, которые влекут за собой использование агрессии и враждебности для избегания ситуаций тревоги? Почему человек неосознанно выбирает именно эти орудия? Я думаю, что в случае Агнес применение этих способов указывает на гиперопеку в раннем детстве. В эту гипотезу вписывается и определенно имеющийся у нее нарциссизм. Гипотеза также подтверждается поведением отца Агнес, который гордился ее привлекательной внешностью, но отвергал во всех других отношениях. Конечно же, нет ничего необычного в том, что родители чрезмерно опекают своих детей и в то же время отвергают их или выражают излишне аффективные чувства на одном уровне и не принимают детей на другом. Гиперопека и отвержение иногда бывают обусловлены друг другом: если родитель действительно отвергает ребенка, он может на другом уровне «испортить» его, чтобы отвержение стало оправданным. По всей вероятности, Агнес, будучи ребенком, имела влияние на ситуацию в семье: ее возражения заставили родителей отказаться от усыновления мальчика. Если эта гипотеза соответствует истине, то с ее помощью можно объяснить, почему спасение от отвержения и подчинение окружающих своей воле с помощью агрессии иногда бывало успешным и, следовательно, получило стимул к развитию в отношениях с родителями. Эта гипотеза также объясняет, почему Агнес интерпретировала отвержение как нападение на себя, а людей, которые не подтверждали ее ожидания и не срывали на ней злобу — как «соглашателей, бегущих от расплаты». Она взрывалась, когда окружающие обделяли ее скандальным вниманием, потому что привыкла считать его своим «правом». В «Ореховом доме» было официально признано: личностный паттерн Агнес настолько твердо выкристаллизовался, что в ее случае эффективность психотерапии будет очень незначительной. Через три недели после родов, когда у Агнес исчезла беспомощность от невозможности покорять всех своей женской привлекательностью, повторное тестирование показало некоторое ослабление ощущения, будто она пала жертвой агрессии. Следовательно, можно говорить об уменьшении жесткости ее паттерна. Но структура характера по-прежнему оставалась садомазохистской, с большой долей враждебности и агрессии. В последней весточке от Агнес (в письме, написанном через месяц после отъезда из «Орехового дома») сообщалось, что ее содержит мужчина много старше нее и она воспитывает ребенка на музыке Баха и Бетховена. Луиза: материнское отвержение без тревоги Луиза, двадцатичетырехлетняя девушка из рабочей среды, в двенадцатилетнем возрасте перенесла смерть матери, после чего поступила на работу прислугой. Отец, рабочий на сталелитейном заводе, умер, когда Луизе было тринадцать. Единственная сестра умерла так рано, что Луиза ее совсем не помнила. Луиза забеременела от мужчины одиннадцатью годами старше нее. Он был первым, к кому она почувствовала любовь и с кем имела сексуальные отношения. Когда врач сообщил, что она на третьем месяце беременности, у нее на секунду мелькнула мысль о самоубийстве, но после этого она просто позвонила в справочную и спросила у телефонистки, куда может отправиться девушка «в ее положении». История ранних лет жизни Луизы со всей очевидностью отмечена сильнейшим материнским отвержением, которое выражалось в жестоких наказаниях. По ее словам,
Луиза поведала об этих инцидентах ровным тоном и без особого волнения. У меня создалось впечатление, что она, наверное, часто пересказывала эту историю (возможно, женщинам, вместе с которыми работала домашней прислугой) и преувеличивает, чтобы усилить воздействие на слушателя (например, рассказ о «сломанном» локте и спине звучал не очень убедительно). Но даже с учетом возможного преувеличения было очевидным, что в детстве она подвергалась физическому насилию и суровому отвержению. Для нас важно, что и в детстве, и в более зрелые годы Луиза смогла избежать субъективной травмы, хотя ее детские переживания были объективно травмирующими. Дружеские отношения с отцом оказывали облегчающее воздействие, но скорее на поверхностном, чем на глубинном уровне (например, в пятнах Роршаха она не разглядела ни одного мужчины). Мне кажется необоснованным выдвигать гипотезу, что Луиза просто подавляла все аффекты, связанные с отношениями с матерью. Иногда во время интервью она была очень эмоциональна — плакала, рассказывая о своей ненависти к матери. Но ненависть констатировалась как простой факт, не указывала на сопутствующий психологический конфликт и не содержала намеков на скрытую всепоглощающую обиду на мать. Не считая вполне понятного стремления избежать боли от побоев, в детстве Луиза была больше всего озабочена размышлениями о причинах враждебности матери и о том, что вслед за матерью ее будут ненавидеть и другие люди. Раздумывая над этим, она предположила, что не была ее настоящей дочерью. Луиза не делала притворных попыток скрыть реальность их взаимоотношений с матерью. В присутствии других людей мать требовала, чтобы Луиза демонстрировала ей свою привязанность, но Луиза всегда отказывалась, хотя и знала, что на следующее утро будет наказана. Субъективное отношение Луизы к отвержению и наказаниям отражено в том, что она сваливала все свои детские переживания в общую кучу под названием «тяжкая доля». Короче говоря, Луиза принимала материнское отвержение реалистично, как объективный и, так сказать, безличный факт. Результаты теста Роршаха показали относительную недифференцированность личности, средние умственные способности и некоторую оригинальность[442]. В протоколе не было ответов двигательного типа, что означает снижение интратенсивной активности и подавление импульсивных тенденций. Она легко и с готовностью адаптировалась к стимулам извне, но это свойство имело форму псевдооткликаемости и указывало на поверхностные отношения с людьми. Важно, что Луиза не увидела на карточках человеческих существ (что часто бывает при плохих отношениях с родителями). Ближе всего к описанию человека был ответ «женская голова сзади», что заключало в себе сообщение: «женщины отворачиваются от меня». В этом ответе голова женщины разместилась не в самом пятне, а в пространстве, что указывает на ее собственные тенденции к противостоянию с женщинами. Можно сделать справедливое заключение, что прототипом этих двух типов отношений с женщинами были ее отношения с матерью. В тесте Роршаха не проявилось практически никакой явной тревоги. О наличии некоторой скрытой тревоги свидетельствовал недостаток ответов двигательного типа: отсутствие внутренних импульсов частично служило знаком недифференцированности личности, а частично следовало из блокирования инстинктивных, особенно сексуальных, побуждений, которые могли сделать ее более уязвимой. Мы оценили ее тревожность по тесту Роршаха следующим образом: глубина 3, широта 2, способность к защите 1. По сравнению с другими молодыми женщинами она попадает в категорию умеренно низкой тревожности. Луиза была способна избегать личностных взаимоотношений, которые могли вызвать тревогу, и методы избегания не помогали ей оставаться в стороне от глубоких конфликтов. Во время заполнения опросного листа, посвященного ее детской тревоге, Луиза многозначительно заметила: «Ребенок никогда не беспокоится. Он принимает многие вещи такими, какие они есть, он не страдает». Хотя по количеству заполненных пунктов в детском опроснике она попадает в категорию высокой тревожности, оценка ее тревожности в опросном листе по настоящему времени была самой низкой среди всех молодых женщин[443]. Заполняя его, Луиза отметила: «Я практически никогда ни о чем не беспокоюсь». Основными видами тревоги в опросном листе были осуждение сверстниками и опасения фобического характера. Уровень тревоги, связанной с соревновательными амбициями, был у нее самым низким среди всех девушек. По отношению к психологу, социальным работникам и ко мне Луиза неизменно была почтительна, извинялась за то, что отнимает наше время и удивлялась заинтересованности в ней. Ее речь текла свободно, но создавалось впечатление (зрачки у нее были постоянно сужены), что она ожидает получить выговор. Луиза стремилась сделать приятное своим «покровителям» и выполняла свои обязанности по приюту с редкостной добросовестностью. Оборотная сторона такого угодливого поведения выражалась в некотором пренебрежении другими молодыми женщинами: Луиза часто критиковала обитательниц приюта в разговоре с хозяйкой, поэтому не пользовалась их особым расположением. Это вроде бы ее не трогало: она заявила, что «просто держится подальше от других людей», когда не может с ними поладить. Ее единственным развлечением были длительные ежедневные прогулки в одиночестве. Помимо удовольствия, они позволяли ей держаться подальше от других девушек и крепко спать по ночам, вместо того чтобы, как она выразилась, «лежать без сна и хандрить». У Луизы не было и мысли взять ребенка себе, она планировала оставить его в приюте до тех пор, пока не выйдет замуж или не заработает достаточно денег, чтобы поселиться в собственном доме. Она заботилась о детях других девушек перед собственными родами, и было видно, как много для нее значил ее ребенок. Ребенок Луизы родился мертвым, и она была безутешна. Первые дни в больнице она плакала навзрыд, а в течение трех недель выздоровления в «Ореховом доме» не могла говорить ни о чем другом. Затем она уехала в загородный дом отдыха, где постепенно оправилась от печали и депрессии. Последние весточки от Луизы — длинные, полные нежности письма нянечке «Орехового дома», с которой она установила близкие, любящие отношения. Общая оценка тревожности была низкой, материнского отвержения — высокой. Личность, перенесшая суровое отвержение, но не обнаруживающая вытекающей из него невротической тревоги, представляет для нас проблему. Это идет вразрез с моей гипотезой о том, что отвержение матерью служит источником невротической тревоги. Можно ли объяснить отсутствие тревоги малой дифференцированностью ее личности или подавлением аффекта? На этот вопрос нужно отвечать по частям. В некоторой степени Луиза была относительно простой, недифференцированной личностью в «нормальном» смысле (т. е. недостаток дифференциации нельзя списать на имеющиеся субъективные конфликты). Подавление инстинктивных побуждений в тесте Роршаха относилось к сексуальному влечению к мужчинам и само по себе не объясняло отсутствие невротической тревоги по поводу отвержения матерью. Невозможно выяснить степень взаимосвязи скудной эмоциональной отзывчивости к другим людям и недостатка привязанности к матери, хотя очевидно, что один фактор вытекает из другого. Но отсутствие невротической тревоги нельзя объяснить лишь отсутствием аффектов или их подавлением. Во-первых, Луиза выражала аффект, рассказывая о своей ненависти к матери, во-вторых, испытывала сильнейшие чувства к ожидаемому ребенку и, наконец, смогла установить близкие отношения с нянечкой в «Ореховом доме». Луиза рассматривала материнское отвержение скорее как реальный факт, чем как источник субъективного конфликта. Мне кажется, что это имеет большое значение для ее свободы от невротической тревоги. Ненависть матери и ее наказания воспринимались объективно и относительно безлично — как «тяжкая доля». Утверждение Луизы, что дети принимают вещи такими, какие они есть, не страдая (в смысле переживания невротической тревоги), выглядит как точное описание ее понимания самой себя. Понятно, что отвержение и наказания были объективной травмой и причиняли боль, но субъективная травма и конфликт, связанные с отношениями с матерью, отсутствовали. Ненависть матери прямо встречается с ответной ненавистью и не становится причиной для постоянных обид Луизы. Важно, что Луиза не выдвигала к матери никаких требований; в отличие, например, от Нэнси, Луиза не тешила себя надеждами, что ее мать может или должна измениться и стать «хорошей» матерью. Поведение Луизы также не было отмечено никакими претензиями, о чем свидетельствует ее отказ демонстрировать лживую привязанность к матери в присутствии гостей, несмотря на уверенность в грядущем наказании за подобное самоутверждение. В противоположность многим другим обследованным женщинам (Нэнси, Хелен, Агнес и др.), у Луизы не было расхождения между ожиданиями и реальной ситуацией в отношениях с родителями. Ее случай показывает, что невротическая тревога не проистекает из отвержения, если человек свободен от субъективных противоречий в отношении к родителям. Если некоторые описанные элементы проявляются в более ярко выраженной форме, чем у Луизы, можно судить о развитии психопатии. У психопатической личности, выросшей в условиях настолько всеобъемлющего отвержения в семье, что основы для будущих связей с другими людьми вообще не заложились, невротическая тревога не возникает (см. ссылки на мнение Лоретты Бендер). Но, я думаю, понятно, что Луизу нельзя причислить к психопатическим личностям. Было уже отмечено, что у Луизы адаптация к разнообразным травматическим ситуациям характеризовалась не невротическим конфликтом, а объективным восприятием проблемы и «отходом от нее подальше». Это прослеживается в ее стремлении расстаться с матерью и в способе адаптации к трудностям общения с девушками в приюте. Правда, у Луизы этот «отход подальше» может принять патологическую форму, если она столкнется с невыносимой травмирующей ситуацией. К известию о беременности она подошла просто и с объективностью, хотя сначала у нее были мысли о самоубийстве. Точно так же и в детстве, когда боль от материнских побоев становилась невыносимой, самоубийство казалось ей единственным выходом. У меня сложилось впечатление (для которого я, однако, не могу привести достаточных доказательств), что переживание Луизой невыносимой травмы скорее выльется в развитие психопатии, чем в глубокие невротические конфликты. Тем не менее, я думаю, что этот момент не отменяет наших прежних выводов о свободе Луизы от невротической тревоги. Бесси: отвержение родителями без тревоги Случай пятнадцатилетней Бесси, выросшей в рабочей семье, был единственным в нашем исследовании случаем беременности в результате инцеста. Ее отец работал на речной барже, которая курсировала вверх и вниз по Хадсону от Албании до Нью-Йорка. У Бесси было восемь братьев и сестер, четверо старших. Жили они в бедности и тесноте. В период беременности Бесси второй год обучалась в профессиональном училище на оператора ткацких станков. Она забеременела от отца прошлым летом. Мать Бесси сама настаивала на том, чтобы дети проводили лето на барже, так ей было легче работать по дому. Узнав, что отец вынудил старшую сестру вступить с ним в сексуальные отношения (и теперь она сама была от него беременна), Бесси отчаянно запротестовала против того, чтобы отправляться на баржу, даже выпила небольшое количество йода. Но в конце концов ей пришлось уступить требованиям матери. На барже Бесси спала в одной кровати с отцом и братом. За лето отец трижды насиловал ее, угрожая убить, если она откажется или расскажет об этом кому-нибудь. Когда мать узнала о беременности Бесси, она во всем обвинила ее, жестоко избивала и угрожала убить, если дочь не уйдет из дома. Бесси получила временное убежище в Обществе предупреждения насилия над детьми, а затем перебралась в «Ореховый дом». Во время ее пребывания здесь отец предстал перед судом за изнасилование старшей сестры и был помещен в исправительное учреждение. Несмотря на то, что Бесси было трудно говорить о конкретных событиях, закончившихся беременностью, она была открытой и отзывчивой, хотя несколько застенчивой и беспокойной. В интервью с социальными работниками и со мной она показала себя непосредственной, настроенной на сотрудничество и ответственной молодой женщиной. Мать не только сурово отвергала Бесси, но и старалась как можно больше усложнить ее проблемы, связанные с беременностью. Сначала она заявила, что не несет за Бесси никакой ответственности, но когда Бесси решила отдать ребенка на усыновление, начала требовать, чтобы Бесси оставила ребенка и привезла его домой. Поскольку это произошло «по вине Бесси», она должна заботиться о ребенке; свое стремление держать Бесси и ребенка под контролем мать объясняла тем, что ребенок — это их собственная плоть и кровь, раз уж отцом был ее муж. Но старшая сестра указала социальному работнику на и без того очевидный факт, что на самом деле мотивы матери были карательными: ей хотелось держать Бесси и ребенка дома, чтобы иметь возможность вечно попрекать Бесси беременностью. Каждый раз, когда Бесси выдвигала собственный план действий, мать яростно набрасывалась на нее. Она решительно возражала против первоначального решения Бесси после родов поселиться в отдельном доме вместе со старшей сестрой, а также против ее дальнейших планов жить в приюте. Все эти детали характеризуют мать Бетти как явную садистку. Бесси было нелегко противостоять нападкам матери, но и выказывать враждебность по отношению к ней было также трудно. Главное в том, что Бесси каждый раз находила реалистический выход независимо от желаний и давления матери. По словам Бесси, ее отношение к происходящему было следующим: «Просто моя мать такая; я могу лишь не обращать внимания на то, что она говорит». Когда во время ее приходов домой мать начинала свою обычную брань, Бесси просто замечала: «Я пришла сюда не по делам, а для удовольствия», — и уходила из дома. Тест Роршаха охарактеризовал Бесси как человека со средними умственными способностями, беспокойного, самодостаточного (независимого в хорошем смысле слова), но ограниченного и обладающего свойством некоторой истощенности личности[444]. Под словом «истощенность» я подразумеваю, что, судя по записям в протоколе, ее ограниченность явилась результатом не только недостатка способности к дифференциации; она также была обусловлена легкой тенденцией удерживать себя на относительно простом уровне эмоционального развития, чтобы избежать трудностей (осложнений) в отношениях с людьми. Человеческие существа в ответах Бесси часто появлялись в образах скелетов или портретов, а с учетом отраженной в ее протоколе способности прямо и легко реагировать на других людей этот факт предполагает, что она пыталась исключить свои динамические, жизненные импульсы из межличностных отношений. Единственное проявление открытой тревоги, зафиксированное в записях, имело место в трех ответах, отражающих перспективу (FK). Однако наличие таких ответов в протоколе в относительно гармоничной пропорции указывает на достаточно адекватные и прямые методы защиты от конфликтов. Обнаруженные в тесте Роршаха конфликты, на которые были направлены эти прямые методы защиты, имели сексуальную почву и относились в первую очередь к проблемам с отцом, а во вторую очередь — к сложностям с матерью. Два из этих ответов с перспективой представляли собой сцены в парке, их можно понять в свете рассказов Бесси о том, что обычно она спасалась от брани родителей в парке около дома. В протоколе были отмечены скрытые шизоидные тенденции (отразившиеся в умеренном использовании цвета). Они не были выраженными и важны здесь главным образом как указатели направления, которое может принять развитие Бесси под действием невыносимых стрессов. Хотя в целом по тесту Роршаха тревожность отнюдь не была сильной, тем не менее, в нем присутствовали некоторые признаки глубоко спрятанной тревоги, которая может вскрыться у Бесси только при тяжелом кризисе. Ее оценки по тесту Роршаха были таковы: глубина 3, широта 2, защита 1, в результате Бесси попадает в умеренно низкую категорию тревожности по сравнению с другими девушками. Опросные листы по детскому возрасту и по настоящему времени выявили у Бесси очень низкий уровень тревожности. По первому из них ее тревожность оказалась самой низкой среди всех девушек, а по последнему — на третьем месте[445]. Ее тревога распространялась на сферы успеха или неудачи в работе и мнения о ней семьи и сверстников (однако не следует придавать особого значения этим выделенным областям по причине небольшого количества пунктов, заполненных по каждой из них). У Бесси сложились теплые и любящие отношения с братьями и сестрами. Видимо, некоторые сложности в противостоянии матери у Бесси объяснялись тем, что та являлась главой семьи, а семья была очень важна для Бесси именно благодаря отношениям с сиблингами. Однако я хочу уточнить, что трудности Бесси в этом противостоянии были реальными, а не невротическими. Во всех конфликтных ситуациях, происходивших за несколько месяцев ее пребывания в «Ореховом доме» и в другом приюте, она ни субъективно, ни объективно не капитулировала перед требованиями матери. С детства и до сегодняшнего дня дети в семье составляли отдельную от родителей группу, связанную тесными взаимоотношениями. Они не соревновались между собой за любовь родителей, которой, как им было, без сомнения, известно, в любом случае не предвиделось. Предположительно, братья и сестры считали своих родителей доминирующими и суровыми людьми, каковыми они на самом деле и являлись. Возможность поддерживать любящие отношения с братьями и сестрами перед лицом родительского отвержения, несомненно, напрямую связана с относительной свободой Бесси от невротической тревоги. Рассказы Бесси о своем детстве служат прелюдией, проливающей свет на ее отвержение отцом, которое стало очевидным уже из его поведения по отношению к ней на барже. Каждый раз, когда отец возился с другими детьми, при появлении Бесси он прекращал игру. Бесси всегда удивляло такое поведение, и она списывала его на то, что отцу хотелось иметь еще одного мальчика, а родилась она. Но важно то, что в таких случаях Бесси никогда не покидала их компанию, надув губы. По ее выражению, «она просто шла дальше», присоединяясь к игре с братьями и сестрами, независимо от ухода отца. Очевидно, что такое отвержение принималось Бесси как объективный факт и не вело ни к субъективным конфликтам и обидам, ни к изменению поведения. Тревога, которая проявлялась у Бесси за время пребывания в «Ореховом доме», всегда была связана с реальными ситуациями. Она очень боялась идти в суд на разбирательство дела своего отца и беспокоилась, что суд запретит ей оставаться жить в приюте, а потребует вернуться в дом матери. В первом случае она боялась встретиться с отцом, а во втором — переживала, как будет стоять перед судьями и давать свидетельские показания[446]. Она испытывала реалистический конфликт по поводу отказа от собственного ребенка, но пришла к выводу, что вместо него может заботиться о ребенке замужней сестры. По свидетельству социальных работников и психолога, тревога Бесси в этих случаях была скорее ситуативной, чем невротической, т. е. не вытекала из субъективного конфликта, и встречалась девушкой со всей объективностью и ответственностью. Отношения Бесси с другими молодыми женщинами и со служащими «Орехового дома» были неизменно хорошими. Она шутливо называла себя «приютской задирой», но все ее поддразнивания носили дружеский характер и воспринимались остальными именно так. Она получала большое удовольствие от заботы о детях других девушек и была очевидно права, когда сказала: «Меня любят все дети, о которых я в своей жизни заботилась, и я их люблю». Поселившись в другом приюте после отъезда из «Орехового дома», она сообщила, что очень счастлива, и хозяйка приюта описала ее как надежную девушку с очень хорошим характером. Бесси выказывала умеренно низкий уровень тревожности. Ее конфликты в основном носили ситуативный характер, и она справлялась с ними с относительно высоким реализмом и ответственностью. У нее была весьма понятная склонность отдаляться от стрессовых ситуаций, которые нельзя было уладить иным путем. Это отдаление обычно принимало реалистическую (в смысле «нормальную») форму — например, уйти в парк, чтобы избавиться от ругани родителей. Имелась и скрытая возможность шизоидного поведения в ситуации невыносимых стрессов. Но факт отсутствия этой крайней тенденции в ее поведении перед лицом сильнейшего кризиса во время беременности показывает, что Бесси была подвержена невротической тревоге в очень низкой степени и справлялась с ней относительно здоровым способом. Бесси испытывала высокую степень отвержения со стороны обоих родителей. Как и в случае Луизы, этот факт вызывает недоумение. Почему сильнейшее родительское отвержение не привело к развитию невротической тревоги? Очевидно, что родительское отвержение не породило у Бесси внутренних, субъективных конфликтов. Проблемы с родителями не были интроецированы ни в качестве повода для самобичевания, ни в качестве источника постоянных обид. Она принимала родительское отвержение как реальный, объективный факт, и это принятие основывалось на реалистической оценке своего отца. Ее оценка матери также соответствовала действительности (хотя у матери все еще было достаточно власти, чтобы затруднить для Бетти принятие решений). Таким образом, работа с отвержением проводилась на сознательном уровне; она не нарушалась ожиданием того, что родители могли бы или должны быть другими. По существу, отвержение не исказило ее поведения: в любопытной виньетке о своем детстве она не отказалась от намерений поиграть с другими детьми, несмотря на вопиющее неприятие отцом ее приближения. Она была способна устанавливать любящие отношения с братьями и сестрами, ровесниками и другими людьми всех возрастов. Я попытаюсь предложить следующий принцип: приспособление к отвержению без внутреннего конфликта — то есть без разрыва между субъективными ожиданиями и объективной реальностью — является важной составляющей свободы Бесси от невротической тревоги. Долорес: паническая тревога в ситуации серьезной угрозы Долорес была четырнадцатилетней белой пуэрториканкой католического вероисповедания, приехавшей в Соединенные Штаты за три года до наших интервью. Она принадлежала к рабочему классу, ее отец был неквалифицированным рабочим на фабрике в Пуэрто-Рико. В детстве Долорес перенесла туберкулез кости ноги и немного прихрамывала. В Пуэрто-Рико у нее остались два старших брата, старшая сестра и младший брат. Когда Долорес исполнилось пять лет, ее мать заболела, и Долорес пришлось шесть лет ухаживать за ней и не ходить в школу. После смерти матери бездетная тетя привезла Долорес в Соединенные Штаты. У беседовавших с тетей социальных работников «Орехового дома» создалось впечатление, что она использовала Долорес для удовлетворения собственных эмоциональных потребностей. В первые несколько месяцев тетя любила девочку, но затем резко изменила отношение к ней вплоть до полного безразличия, частенько била ее и нарочито отвергала в пользу детей родственника, жившего неподалеку. От Долорес мы смогли узнать только то, что ее затолкал в подвал и изнасиловал незнакомый мужчина. На протяжении шести с лишним недель предварительных собеседований перед поступлением в «Ореховый дом» и первых недель в приюте Долорес упорно придерживалась этого объяснения своей беременности. Мы не знали ничего, кроме того, что ее рассказ был неопределенным и неубедительным. Все это время Долорес вела себя угодливо и покорно, отвечала на вопросы как человек, вынужденный подчиняться властям, но в остальном держалась очень отстраненно. Девушка выглядела спокойной, пока считала себя незамеченной, но как только чувствовала, что за ней наблюдают, то принимала сгорбленную позу и «забивалась в футляр». Этот случай очень важен для нас, поскольку он отражает паническую тревогу и психологическое обездвиживание индивида в ситуации постоянной серьезной угрозы. В первом тесте Роршаха Долорес дала только три ответа, отказавшись от семи карточек из десяти. Протокол ясно показывает наличие сильного беспокойства. Во время тестирования у Долорес разболелась голова, но в последний момент она решила все-таки пройти его. Поскольку головные боли часто являются психосоматическими симптомами конфликта, боль Долорес, как оказалось позже, прекрасно вписывалась в ее ситуацию на тот момент. При тестировании было заметно, что она постоянно делает над собой тихие, но напряженные усилия: задерживается на каждой карточке от трех до пяти минут, изучает ее, а затем молча смотрит на исследователя или вверх, в потолок. Не могло остаться без внимания, что в ней происходит сильная субъективная борьба. Диагностировать психоз не позволил только тот факт, что три данных ею ответа были самыми очевидными во всем тесте[447]. Поведение Долорес во время тестирования показало, что она была склонна наделять авторитетных лиц огромной властью (она весьма подозрительно относилась к записи ее ответов экспериментатором). Но в то же время Долорес подчинялась авторитету. Мы могли только предположить, что девушка страдала от чрезвычайно сильного эмоционального конфликта, который при тестировании вылился в психологический паралич. Тогда мы еще не могли определить содержание конфликта, ясно было лишь то, что он имел нечто общее с властью, которую она приписывала авторитетам. Оценка ее тревожности по этому тесту Роршаха была такова: глубина 5, широта 5, защита 3. За первый месяц Долорес трижды направляли в клинику для обычного гинекологического обследования перед родами. При первых двух посещениях клиники она, не выдвинув заранее никаких возражений, замирала на месте и отказывалась проходить обследование. Когда ей объяснили, что приют не может взять на себя никакой ответственности, если она откажется сотрудничать, Долорес в конце концов согласилась пройти осмотр, но, когда она снова прибыла в клинику и легла на стол, у нее началась истерика, а мышцы так напряглись, что врачи не смогли к ней подступиться. Тогда мы предположили, что ее конфликт был как-то связан с обстоятельствами, при которых она забеременела. На двух следующих беседах с социальным работником, когда Долорес уверили, что ее защитят от тети, она раскрыла всю правду о своей беременности. Долорес была беременна от своего дяди, тетиного мужа. Он пришел к ней в постель, когда она спала, и акт был совершен еще до того, как она смогла сопротивляться. Долорес все рассказала тете, после чего та присоединила к своим наказаниям постоянные угрозы, одна из которых заключалась в том, что Долорес пошлют в учреждение, где ее будут каждый день бить, если она скажет кому-нибудь правду о причине своей беременности. Теперь стало понятно, что выраженная блокировка при осмотре (очевидно, что Долорес поместила тест Роршаха в ту же категорию, что и гинекологическое обследование) объяснялась глубоким ужасом от мысли, что причина ее беременности может каким-то образом раскрыться. Тогда угрозы тети были бы приведены в исполнение, т. е. девушку убили бы или поместили в исправительное учреждение. Сам конфликт принял форму столкновения авторитета социальных работников, исследователя и врачей, с одной стороны, и авторитета ее тети — с другой, причем определенные угрозы наказания придавали авторитету тети дополнительную весомость. Было замечено, что она с готовностью подчинялась «авторитету» психолога, социальных работников и врачей — например, являлась на тестирование и без возражений совершала поездки в клинику — пока подчинение этому «авторитету» внезапно не вступало в конфликт с тетиной властью. После сглаживания конфликта установки и поведение Долорес радикально изменились. Она стала открытой и дружелюбной как с другими молодыми женщинами, так и с персоналом «Орехового дома», и проявила самостоятельность при организации мероприятий в приюте и при выборе собственного хобби, что в корне отличалось от ее прежнего, подчеркнуто угодливого поведения. В последние дни ее пребывания в приюте малейшая проблема у нее развивалась в девиантное и иногда агрессивное отношение к некоторым девушкам. Я рассматриваю такое поведение как оборотную сторону ее уступчивой, угодливой манеры общения с авторитетными лицами, явно преобладавшую на первых порах в ее отношениях с социальными работниками и со мной. Можно предположить, что уступчиво-девиантный паттерн, особенно относящийся к вере в авторитеты, является выраженной чертой в структуре характера Долорес. Второй тест Роршаха, проведенный через несколько месяцев после исчезновения конфликта, также обнаружил радикальные перемены[448]. Патологическое блокирование исчезло[449]. В тесте Роршаха вырисовывался не всепоглощающий конфликт, а портрет относительно недифференцированной личности с очень здоровым ядром и средними умственными способностями. Имелись некоторые признаки желания защитить себя от эмоциональной увлеченности другими людьми и от проблем в области секса — например, она не увидела на карточках мужчин; 4-ю карточку, верхняя часть которой обычно вызывает ответ «мужской пенис», она назвала «гориллой». Избегание мужчин и ассоциация секса с возможной агрессией вполне понятны в свете ее недавнего травматического сексуального опыта. Поразительно, что первоначально Долорес отказалась от 4-й карточки (которая также часто провоцирует ответы из области секса), но после расспросов назвала ее «попугаем, который может говорить». Это заставляет нас немедленно вспомнить тот факт, что теперь она была в состоянии говорить о своей сексуальной проблеме и причине своей беременности. Оценка тревожности Долорес по этому тесту Роршаха была следующей: глубина 2, широта 2, защита 2. Ее можно отнести к умеренно низкой категории по сравнению с остальными молодыми женщинами. Долорес получила умеренно высокую оценку по уровню тревоги в опросном листе по детскому возрасту, и высокую — в опросных листах по настоящему и будущему. Так как последние опросники заполнялись уже после смягчения конфликта, высокий уровень тревоги нельзя объяснить как его результат. Я уверен: так много заполненных пунктов появилось благодаря ее покорности авторитетам и чувству, что следует прилежно отметить каждый пункт, по поводу которого она когда-либо ощутимо беспокоилась[450]. Преобладающей областью были опасения фобического характера. Что касается отвержения Долорес родителями, то мы получаем разные картины, когда рассматриваем ее отношения с тетей, с матерью и с отцом. Понятно, что тетя подвергала ее крайнему отвержению. Но данные, свидетельствующие о более значимых ранних отношениях с матерью, не такие ясные, и их приходится большей частью домысливать. Долорес утверждала в очень общих выражениях, что у нее с матерью были теплые отношения. Но тот факт, что мать была больна с тех пор, как Долорес исполнилось пять лет, и что именно Долорес понадобилось отказаться учебы в школе, несмотря на наличие в семье двух старших братьев и старшей сестры, позволяет считать, что девочка испытывала некоторую дискриминацию и большее отвержение, чем она сама признает. В изложении событий ее детства явственно проступает неприятие со стороны отца. С начала болезни матери отец жил с другой женщиной и только изредка возвращался домой. После расспросов Долорес рассказала, что отец никогда не играл с ней, когда она была ребенком, хотя возился с ее младшим братом. Когда я спросил Долорес, обижалась ли она на то, что отец никогда с ней не играл, она взглянула на меня с изумлением, как будто такой вопрос никогда не приходил ей в голову. По-моему, последовавший отрицательный ответ даже менее поразителен, чем тот факт, что такое положение вещей не только никогда не было для нее субъективной проблемой, но еще и вызывало удивление, что кто-то мог представить это в таком виде. Мы оцениваем отвержение Долорес отцом как умеренно высокое. Из-за скудности данных, особенно касающихся матери, мы, поколебавшись, оценили общее отвержение Долорес как умеренно высокое, не забывая, что с той же вероятностью ее можно поместить и в умеренно низкую категорию. Случай Долорес продемонстрировал нам сильнейший конфликт в ситуации угрозы. Конфликт выражался в тревоге, которая по интенсивности приближалась к панике, характеризующейся крайней отстраненностью и частичным психологическим параличом. Он показывает, каким образом человек может быть напуган буквально до оцепенения. Конфликт был ситуативным и утих, когда Долорес, освобожденная из-под гнета угроз тети, смогла раскрыть правду о своей беременности. Но пока конфликт был в разгаре, его власть распространялась на все, что, по мнению Долорес, могло привести к разгадке тайны, которую она должна была хранить. Поэтому гинекологическому обследованию была приписана иррациональная, «магическая» способность вскрыть правду о причине ее беременности. Для того чтобы понять, почему ее конфликт был столь силен, важно учитывать, что Долорес склонна приписывать авторитетным фигурам власть над ней и подчиняться этой власти. К примеру, можно предположить, что ее конфликт не был бы так заметен и она не цеплялась бы за сфабрикованную историю так крепко и упорно, если бы не верила, что у тети достаточно власти для выполнения всех угроз, а у нее самой нет никакой силы. И, с другой стороны, конфликт также был бы менее силен, если бы Долорес не наделяла такой властью социальных работников и врачей. Руководствуясь этой гипотезой, можно понять, что ложь о виновнике беременности отчасти избавляла ее от ощущения «ловушки». Во время конфликта тревога Долорес была очень высока; когда конфликт стих, ее тревогу оценили как умеренно низкую.[451] Мы ориентировочно оценили отвержение Долорес как умеренно высокое. Однако обратим внимание, что Долорес, равно как Луиза и Бесси, не интерпретировала отвержение как субъективную проблему. Ярчайшим примером служит ее изумление при вопросе, обижалась ли она на то, что отец никогда с ней не играл. Неприятие рассматривалось как реальный факт, а не причина для субъективных колебаний и конфликтов. На основе этих рассуждений предполагается, что даже если материнское отвержение было сильным, Долорес никогда его таким не считала и не рассказывала о нем. Филлис: отсутствие тревоги у опустошенной личности Двадцатитрехлетняя Филлис была старшей дочерью в семье, принадлежавшей к среднему классу. У нее было две сестры семнадцати и двенадцати лет. Отец Филлис был протестантом, а мать — католичкой; девушка воспитывалась в католическом духе. Во время беременности она работала бухгалтером в банке. В школе и бизнес-колледже (как и в других сферах жизни) Филлис славилась своей молчаливостью, прилежностью, исполнительностью и дотошностью. В «Ореховом доме» последнее качество проявлялось в чересчур старательном приведении себя в порядок перед каждым интервью. Отцом ребенка был военный врач, которого она встретила, когда работала USO hostess. Его профессия и звание майора составляли предмет гордости Филлис и ее матери. Филлис наивно идеализировала этого человека и постоянно отмечала, что он «блестящий» и «без единого изъяна». Судя по рассказам Филлис, в детстве она «ни разу не была несчастлива», постоянно следовала советам отца («мы никогда не шли против него») и воле матери, очень властной женщины. Во время интервью в «Ореховом доме», на которых присутствовала мать, Филлис спокойно сидела рядом с ней, пока та пыталась принять за нее решение относительно судьбы ребенка. Филлис смогла припомнить только один случай, когда она в детстве возразила своим родителям (это произошло во время поездки на машине, ей было восемь лет). В ответ отец незамедлительно высадил ее из машины и на некоторое время оставил на обочине. Очевидно, что девочка научилась никогда больше не выступать против родителей. У Филлис не было друзей среди свертников, но она не сожалела об этом, поскольку считала, что может «хорошо провести время, не нуждаясь при этом в ком-либо». Она предпочитала компанию старших людей; ее пока не осуществившимся «идеалом хорошего времяпрепровождения» было приглашение в компанию леди, играющих в бридж в клубе ее матери. Филлис и ее мать были очень озабочены тем, чтобы ей предоставили квалифицированный врачебный уход во время беременности. Филлис настояла на том, чтобы ее отправили в лучший роддом в городе, и находилась под наблюдением ведущего акушера в клинике. События в клинике, о которых она мне рассказала, объясняют, почему она придавала особое значение тщательному врачебному уходу. Во время ее визита в клинику для подготовки к родам ассистент акушера заметил, что ей, возможно, придется делать кесарево сечение. Филлис сказала, что после этого главный акушер отвел ассистента в сторону, и предупредил, что не следует «говорить ничего такого, что может заставить меня нервничать». Каждый раз, когда Филлис спрашивала главного акушера о своем здоровье, тот отвечал: «С вами все в порядке; мы не разговариваем с пациентами». Рассказывая об этом, Филлис довольно улыбалась; очевидно, что пребывание под крылом авторитета и неосведомленность о своем состоянии были для нее идеальной ситуацией. Такая «политика испуганного страуса», или высокая оценка незнания, объясняется тем, что для нее это было средством избегания любого волнения, конфликта, тревоги. Однажды, за неделю до родов, Филлис охватила тревога, что она может умереть. Девушка немедленно выкинула беспокойную мысль из головы, сказав себе: «Это все дело науки, незачем беспокоиться». Она подчеркивала, что «твердо верит в науку, и только в науку». По результатам пройденного теста Роршаха можно судить о Филлис о как о чрезвычайно подавленной, расщепленной, «плоской» личности с очень низкой внутренней активностью, т. е. эмоциональной отзывчивостью на других людей[452]. Она проявила излишнюю осторожность, ограничивая свои ответы теми деталями, в описании которых могла быть дотошна и аккуратна, и с успехом удерживалась от эмоциональной увлеченности другими людьми. В протоколе была показана очень низкая тревожность, а конфликты и напряжение практически отсутствовали. Очевидно, что осторожность и скованность так надежно укоренились в ней, что Филлис принимала эти обедненные способы реагирования без каких-либо особых субъективных проблем. Оценка ее тревожности по тесту Роршаха была следующая: глубина 2, широта 2, защита 2, что позволяет отнести ее к низкой категории тревожности по сравнению с другими молодыми женщинами. В опросном листе по детскому возрасту Филлис оценила уровень тревоги как умеренно низкий, при этом самая высокая тревога была отмечена в таких областях, как мнение о ней сверстников, успех или неудача в работе и отношение к ней семьи. В опросном листе по настоящему времени тревога Филлис была оценена как высокая. Сама девушка объяснила ее возрастание тревогой по поводу предстоящих родов. Хотя Филлис определенно испытывала тревогу по поводу приближающихся родов (она опасалась кесарева сечения), я подозреваю, что повышенный уровень тревоги в опросном листе отражает, по крайней мере отчасти, не ее собственную тревогу, а тревогу ее матери по поводу родов. Данная гипотеза согласуется с тем фактом, что Филлис обычно принимала практически все установки матери. Во всяком случае, высокий уровень тревоги в этом опросном листе стоит особняком по сравнению с низкой тревогой, выявленной по всем остальным критериям. При беседе с Филлис возникали лишь самые слабые намеки на бунт против матери. Одним из них было увлечение конным спортом, которым она занималась до беременности, несмотря на опасения матери и ее мягкое осуждение. Но во всех случаях принятия важных решений, таких как планы относительно ребенка, Филлис следовала воле матери. Окончательное решение оставить ребенка себе и растить его как своего собственного принадлежало матери. Возникает вопрос о том, не была ли внебрачная беременность Филлис в некотором роде восстанием против матери, особенно против ее жесткого, подавляющего влияния. У нас нет никаких данных для подтверждения этой гипотезы. Доступные сведения — например, наивность Филлис в сексуальных отношениях и ее идеализация мужчины — предполагают, что беременность была скорее результатом ее конформного, уступчивого поведения (она вступила в сексуальную связь, подчиняясь желаниям мужчины), а не бунтом против данного паттерна. Филлис выразила желание после родов отправиться домой и никогда больше оттуда не уезжать. Непосредственно перед родами властность ее матери переросла в жестокость: она взяла за правило по вечерам дежурить перед дверью дочери в «Ореховом доме», пока ее не выставляла нянечка. Затем она изливала свою яростную агрессию в гневных нападках на Филлис. Но такое поведение матери принималось Филлис спокойно. Через две недели после родов Филлис с матерью забрали ребенка домой, где он вскоре умер от пневмонии. Во время своих последующих визитов в «Ореховый дом» Филлис всегда была одета в черное. Она показала большую цветную картину с изображением младенца в гробу, которую заказали они с матерью; но, помимо этой драматизации смерти ребенка, она не проявляла особенных эмоций. В дальнейших беседах Филлис заявила, что бросила конный спорт и отказывается от свиданий с мужчинами под предлогом, что она замужем. Социальный работник отозвался о Филлис как о величавой, зависимой маленькой девочке, почти всегда действующей по принципу «мама знает лучше». В характере Филлис, человека с низким уровнем тревожности, мы наблюдали черты конформности и уступчивости. Она отказывалась от эмоциональных связей, обедняя аффективную сферу, и подчинялась матери без субъективной борьбы ценой отказа от личной автономии. Она была «успешно» задавлена властной матерью. Это подавление было «успешным» для матери, потому что Филлис не бунтовала. Оно было «успешным» для Филлис, потому что, капитулируя перед матерью и отказываясь от собственного развития, она избегала конфликтов, напряжения и тревоги. Филлис не рассказывала ни о каком отвержении (кроме того инцидента в детстве, который был для нее исключением, подтверждающим правило). Она никогда не шла против матери настолько открыто, чтобы спровоцировать прямое отвержение; а скрытое отвержение (например, враждебность и ярость матери непосредственно перед родами) Филлис никогда таковым не считала. Я предполагаю, что паттерн подавления развивался у Филлис в детстве как стратегия избегания вызывающей тревогу ситуации конфликта с матерью. Филлис привычно подчинялась авторитетам — матери, идеализированному сексуальному партнеру, квалифицированному медицинскому обслуживанию — и таким образом избегала забот, конфликтов и тревог. Так называемая «политика испуганного страуса», желание ничего не знать о своем состоянии, иррациональная вера, промелькнувшая во фразе «это все дело науки, незачем беспокоиться», — были существенными аспектами подавления. Я говорю о ее иррациональной вере в науку, имея в виду не врачебный уход как таковой (в случае другого человека это, конечно, был бы рациональный метод защиты от тревоги), а значение, которое Филлис придает тому, что она называет «наукой» (а я назвал бы его «сциентизмом»). Для Филлис вера в «сциентизм» определенно служит способом избегания встречи со своей тревогой, которая (например, в случае минутного беспокойства о смерти) могла иметь одну из многих причин, в корне отличных от страха смерти как такового. Такая «вера в науку» является суеверием, попадает в ту же психологическую категорию, что и магическое заклинание или молитвенное колесо[453], и выполняет для Филлис ту же психологическую функцию, что и подчинение авторитету матери. Этот случай демонстрирует возможность избегания вызывающих тревогу ситуаций путем обеднения личности. Но расплата за избегание — потеря индивидуальной автономности, личной ответственности и способности к осмысленным эмоциональным связям с другими людьми. Случай Филлис — яркая иллюстрация разнообразных теорий Кьеркегора, Гольдштейна и многих других, согласно которым тревога возникает при встрече с возможностями личностного развития и, следовательно, индивидуум может избежать тревожной ситуации, если откажется от столкновения с этими возможностями. Но в то же время случай, благоприятный для психологического роста, упускается. С психотерапевтической точки зрения, возникновение тревоги было бы для Филлис самым благоприятным прогнозом. Конечно, самый интересный вопрос заключается в следующем: что произойдет с Филлис в дальнейшем? Может ли человек оставаться под таким сильным давлением и не впасть в конце концов в депрессию или не взбунтоваться?[454] Хотя каждый из нас ответит на этот вопрос, исходя из собственных предположений о человеческой природе, я определенно отвечу «нет». Я уверен, что рано или поздно такой «совершенный» механизм разрушится. Конечно, это может принять форму хронической депрессии, которая тогда будет называться «нормальностью». Этот вопрос имеет отношение к динамике «конформизма», приспособлению к социальным нормам и к последствиям некритичного, безоговорочного принятия авторитета. Фрэнсис: борьба подавления и творческих импульсов Фрэнсис, профессиональная танцовщица двадцати одного года от роду, была единственным приемным ребенком в семье среднего класса. Этот случай интересен тем, что Фрэнсис пыталась подавить свою личность, чтобы избежать тревоги, но (в отличие от Филлис) не смогла успешно осуществить это. В те моменты, когда паттерн подавления не выдерживал, возникала тревога. Ее описание своих отношений с отцом и матерью было заметно идеализировано. Она заявила, что «абсолютно довольна» своим детством; ее отец был «совершенным», мать была «милой» и всегда отзывалась на ее нужды и пожелания. Но всем этим описаниям она обычно подводила итог общими, размытыми фразами: «Вы знаете, с каким пониманием мать и дочь могут разговаривать друг с другом». При этом не было никаких достоверных доказательств того, что эти образцовые отношения с родителями не являлись всего лишь видимостью. В детстве мать рассказала ей о том, как ее удочерили, в форме «сказки», точно так же, как рассказывала ей и другие сказки на ночь. Через несколько лет мать посоветовала Фрэнсис разузнать о своих настоящих родителях через агентство по усыновлению, но Фрэнсис отказалась, потому что «хотела оставить это сказкой». В тех сновидениях, которые ей случалось пересказывать во время интервью, обнаруживались некоторые признаки того, что под ее якобы образцовыми отношениями с семьей скрывались глубокие чувства изоляции и враждебности от отсутствия у нее настоящих родителей. Вывод о том, что сказочный мотив и идеализация родителей, так же как и идеализация приятеля Фрэнсис, служили для сокрытия враждебности по отношению к ним, кажется логичным. Фрэнсис была беременна от молодого человека, которого идеализировала все четыре года их близкой дружбы, потому что он был «джентльмен и очень надежный». Когда Фрэнсис забеременела, он не предложил ей выйти за него замуж и даже отказался материально поддержать перед родами, после чего ее отношение к нему резко сменилось на ненависть. Она свободно высказала это отношение, прибавив, что теперь «ненавидит всех мужчин». Вероятно, ее идеализация служила защитой от подозрений и подавленной враждебности по отношению к нему. Внезапный скачок в антагонизм предполагает, что подобные чувства все время присутствовали у нее в подавленном виде. В тесте Роршаха проявился паттерн, общий для идеализации и полного антагонизма: ей было необходимо избегать реалистического взгляда на человеческие отношения. После родов ее отношение к мужчинам изменилось от избегания контактов с ними до избегания увлечений (это показано в обеих беседах и во втором тесте Роршаха). Фрэнсис сказала: «Я больше не испытываю ненависти к мужчинам; я боюсь их»; она намеревалась восстанавливать контакты с мужчинами, особенно в своем церковном приходе, но никогда не вовлекаться в отношения. В тесте Роршаха на первый взгляд обнаружились высокая степень ригидности и подавление личности, но в протоколе отмечалось разнообразие, оригинальность и признаки некоторого цветового шока. Причем в ходе тестирования подавление часто ослабевало, что свидетельствует о том, что оно не было симптомом опустошения личности[455]. Фрэнсис чувствовала необходимость подавлять себя, когда эмоционально увлекалась теми людьми, которые, как ей казалось, имели плохие намерения и были враждебно настроены по отношению к ней. В настоящее время она испытывала враждебность к другим людям, но подавляла ее. Основным способом подавления себя было усиленное старание удерживать свои реакции на уровне «здравого смысла», «практичности» и «реализма». Во время тестирования этот прием несколько раз не срабатывал, и тогда появлялась тревога. Фрэнсис также старалась подавить свои чувственные импульсы, в чем, опять же, преуспела лишь отчасти. В тесте Роршаха содержались любопытные доказательства того, что оригинальность Фрэнсис могла бы уничтожить паттерн подавления. Она была способна избежать тревоги, когда подавляла свою оригинальность, но проявление оригинальности разрушало паттерн подавления, и возникала тревога. В этом тесте Роршаха обрисован портрет личности, которая старается подавить себя, чтобы оградиться от вызывающих тревогу ситуаций, но стратегия подавления постепенно разрушается, и возникает страх, в основном из-за бьющей ключом многосторонности личности. Тревогу по тесту Роршаха оценили так: глубина 4, широта 3, защита 2. В итоге Френсин была отнесена к категории высокой тревоги по сравнению с остальными молодыми женщинами. Опросные листы по тревоге в детстве, в настоящем и в будущем показали умеренно низкое, умеренно высокое и высокое количество проявлений тревоги соответственно, причем в каждом случае главной областью возникновения тревоги были амбиции. В беседах с социальным работником и психологом она всегда придерживалась «практических», «реалистических» тем и постоянно отказывалась обращаться к скрытым эмоциональным проблемам. Казалось, что усиленное внимание к «реализму» было способом сокрытия ее настоящих чувств. Она отчасти осознавала защитную природу своей «практичности» и соглашалась, что опасается показывать свои истинные чувства или свою оригинальность из страха, что люди сочтут ее «глупой». Таким образом, во время интервью, в отличие от тестирования, Фрэнсис успешно придерживалась своего паттерна подавления и избегала многих тем, которые влекли за собой тревогу. Ее отношения с другими молодыми женщинами в приюте отличались, с одной стороны, легкостью и непосредственностью при поверхностном общении и, с другой стороны, постоянной подозрительностью и враждебностью, что временами создавало серьезные проблемы. При оценке отвержения у Фрэнсис мы сталкиваемся со сложными противоречиями между ее уклончивыми замечаниями, в которых она всегда отрицала переживание отверженности, и скрытыми показателями. Поскольку паттерн подавления и стратегия избегания проблем не разрушились у Фрэнсис во время интервью и многое свидетельствовало о недостоверности ее описания отношений с родителями (например, идеализация родителей и сказочный мотив), мы строили свои суждения о ее отвержении на основе скрытых показателей. Исходя из того, что Фрэнсис не увидела в пятнах Роршаха ни одного человека, а также из ее подспудной подозрительности и враждебности к людям и явной потребности избегать контактов и связей с ними, мы останавливаемся на умеренно высокой степени отвержения. Мы обнаружили у Фрэнсис умеренно высокий уровень тревожности. Ее случай — пример тревоги, возникающей в связи с паттерном неудавшегося подавления. Она стремилась подавить себя, дабы избежать вызывающих тревогу ситуаций, особенно ситуаций увлеченности другими людьми. У этого подавления было два мощных механизма: старание удерживать все свои реакции на очень «реалистичном», «практическом» уровне и идеализация других людей. Паттерн подавления часто распадался, поскольку Фрэнсис не была опустошенной личностью и под идеализацией скрывалась враждебность к окружающим, а «реализм» и идеализация фактически противоречили друг другу. Никто не может одновременно придерживаться противоречивых убеждений; такое противоречие обречено рано или поздно рассыпаться на куски. Именно в такие моменты Фрэнсис и испытывала тревогу. Составляющими ее стремления к подавлению были отрицание сексуальных и агрессивных побуждений, а также ограничение оригинальности. Для нас очень важно, что, когда при тестировании оригинальность все-таки пробивалась на поверхность, то же самое происходило и с тревогой. В случае Филлис мы отметили, что успешное подавление устраняет тревогу. Обнаруживается аналогичный пример соотношения подавления и избегания тревоги; когда Фрэнсис удавалось подавить себя, она не испытывала беспокойства, но когда ее попытки подавления проваливались, возникала сильная тревога. Шарлотта: психотические образования как бегство от тревоги Шарлотта, девушка двадцати одного года, принадлежала к семье среднего класса из земледельческого района. У нее были старший брат двадцати двух лет и двое младших братьев семнадцати и двенадцати лет. При медицинском обследовании у нее обнаружили врожденный сифилис и свежую гонорею. По поведению Шарлотты в «Ореховом доме» и тесту Роршаха можно было судить о наличии у нее отчетливых, хотя и не очень сильных психотических тенденций. В тесте Роршаха она дала несколько намеренно искаженных ответов. Кроме того, бросались в глаза легкий шок, длинные паузы перед каждым ответом и сильная блокировка[456]. Во время тестирования Шарлотта очень старалась, часто извинялась за свои ответы, но все ее усилия были безуспешны и проходили без особого аффекта. Присутствовала и некоторая льстивость, хотя и не в той крайней форме, которая характерна для выраженного психоза. Во время тестирования она часто улыбалась мне с заискивающим, но безучастным видом, при этом ее взгляд оставался пустым. Что касается диагноза, то тест Роршаха выявил легкую форму шизофрении, возможно гебефренического типа. Наблюдалась очень слабая тревога, хотя защита от нее была по определению ненадежной. Тревогу Шарлотты по тесту Роршаха оценили так: глубина 1, широта 3, защита 4, что позволяет отнести ее к низкой категории тревожности по сравнению с другими молодыми женщинами. В «Ореховом доме» Шарлотта обычно держалась обходительно, мягко и добродушно, хотя периодически у нее случались приступы яростного гнева. Факт беременности затронул ее очень слабо, и, соответственно, она не строила реалистических планов относительно родов и ребенка. События прошлого также указывали на некоторые сильные психологические нарушения. В районе ее знали как девушку, которая временами ведет себя как респектабельный и религиозный человек, но при этом, как говорили в городе, часто «теряет голову от мужчин», а иногда совершает импульсивные, девиантные и «дикие» поступки. В двадцать лет она неожиданно вышла замуж за ригидного, добропорядочного молодого человека, чтобы, как она выразилась, «компенсировать свои недостатки». Эта свадьба была попыткой избежать психотического срыва и сохранить свою целостность. Впоследствии в армии у ее мужа произошел нервно-психический срыв. Когда она посетила его в военном лагере, супруги решили расторгнуть брак, сочтя его ошибкой. Шарлотта сказала, что в то время «была так запутана, что на все махнула рукой». Далее последовал период беспорядочной сексуальной жизни, что и привело к беременности. Свою связь с военным офицером (отцом будущего ребенка), чью фамилию Шарлотта не знала, она описала как событие, которое произошло против ее воли. В ее поведении в данных обстоятельствах можно усмотреть состояние легкой шизофрении (или ее начала), в котором она тогда пребывала. Хотя на интервью Шарлотта свободно говорила о своем детстве, она никогда не упоминала о своих текущих заботах. Казалось, что в настоящее время у нее не существует проблем. Когда в разговоре затрагивались возможные причины ее тревоги в данный момент, она принимала жизнерадостный вид или надолго замолкала с отсутствующим выражением лица. Некоторые оброненные ею слова указывают на глубоко запрятанное чувство вины (например: «Я сделала ошибку, и теперь приходится за это расплачиваться»). Однако она не выражала никакого аффекта по поводу своей виновности. В опросном листе по тревоге в детском возрасте показан умеренно высокий уровень тревоги, при этом особо подчеркивался «страх темноты» («потому что он символизирует неизвестность») и другие опасения фобического характера. Но опросные листы по настоящему и будущему показали, соответственно, умеренно низкий и низкий уровень тревоги. В той мере, в какой материалы опросных листов представляются достоверными, они могут подтвердить выдвинутое при обсуждении тревоги и психоза (глава 3) предположение, что во время предпсихотического состояния человек испытывает сильную тревогу. Но теперь тревога была замаскирована шизофренией на начальной стадии развития. Низкий уровень тревожности Шарлотты показывает, что психотические образования такого типа эффективно маскируют тревогу человека. В свете проблемы тревоги многие формы психозов нужно понимать как конечный результат настолько интенсивных конфликтов и волнений, что они непереносимы для человека и в то же время не поддаются разрешению на каком-либо другом уровне. В таких случаях перед началом психотического состояния обычно обнаруживается сильная тревога. Для Шарлотты этот период настал сразу же после ее согласия расторгнуть брак. Само психотическое развитие можно охарактеризовать как способ устранения неразрешимых конфликтов и тревоги ценой отказа от некоторых аспектов приспособления к реальности (как это было в случае Шарлотты). Мы не знаем, каким именно образом шло развитие психотических тенденций у Шарлотты, но очевидно, что тревога и конфликты практически «скрылись» или «затерялись», в ее психотическом состоянии[457]. Эстер: тревога, бунт и неповиновение Семнадцатилетняя Эстер была единственной дочерью в семье среднего класса. Двое ее братьев были на два и на четыре года старше нее и еще один — на пять лет моложе. Отец Эстер, дизайнер по интерьеру, утопился после запоя, когда ей было семь лет. Среднее образование Эстер получила в частной женской школе-интернате, где прослыла девушкой непокорной, подверженной вспышкам раздражения, наделенной хорошими интеллектуальными способностями, но «ленивой». Она забеременела от моряка, с которым имела случайную связь. Тест Роршаха выявил у нее большую долю эмоциональной импульсивности и инфантилизма, некоторые эксгибиционистские наклонности и выраженные девиантные тенденции по отношению к авторитетным лицам[458]. Свои сексуальные импульсы она чаще всего ставила на службу этому вызывающему поведению. Единственным человеческим существом, которого она увидела в пятнах Роршаха, был клоун. Судя по тесту, тревога у нее возникала в основном в связи с чувством вины, вызванным девиантным поведением (особенно связанным с сексуальной распущенностью). Оценка тревожности по тесту Роршаха (глубина 3, широта 3, защита 3) позволяет отнести Эстер к умеренно высокой категории по сравнению с другими молодыми женщинами. В опросных листах по детскому возрасту и настоящему времени она отметила высокий уровень тревоги, причем главными областями сосредоточения тревоги были мнение о ней сверстников, опасения фобического характера и соревновательный статус в учебе и работе. В детстве атмосфера ее семьи была пронизана садистскими издевательствами отца и братьев. В основном предметом насмешек была мать, хотя перепадало и Эстер. Она считала, что в раннем детстве у нее были очень близкие отношения с отцом, но рассказы девушки свидетельствуют, что отцовские насмешки ранили ее больше, чем она сама признавала, и что в его поведении проглядывало отвержение дочери. Например, однажды она отправилась с ним на рыбалку и на обратном пути зацепилась за колючую проволоку на заборе. Отец (должно быть, ради «шутки») оставил ее там висеть, сел в машину и объехал весь квартал. Эстер связывала свое девиантное поведение с тем, что ее отец умер, когда она была еще маленькой. «Если бы у меня был папа, с которым можно поговорить, меня бы миновали все эти неприятности (включая и беременность)». Мать Эстер пригласили в «Ореховый дом» для интервью; она оказалась довольно пассивным человеком. Мать всегда воспринимала Эстер как проблему и была вынуждена улаживать ее конфликты в школе. Кроме того, похоже, она никогда особенно не интересовалась своей дочерью и не старалась ее понять. В «Ореховом доме» была проведена и беседа со взрослой родственницей, которая находилась в курсе всех дел семьи. Она заявила, что мать Эстер была настолько занята накоплением материальных и социальных благ для детей, что никогда не обращала внимания на них самих. На Эстер она обращала внимание только тогда, когда случались серьезные неприятности. Родственница считала, что было бы лучше, если бы мать была более «авторитарной». Если она имела в виду ее чуткость к Эстер, личностную близость к дочери, пусть даже ценой эпизодических наказаний, можно предположить, что в такой ситуации Эстер действительно могла бы получить в семье необходимую психологическую поддержку. Тогда девушке не понадобилось бы прибегать к бунтарским выходкам, для того чтобы завоевать материнскую заботу. Эстер восхищалась матерью, однако не отрицала, что та была отстраненной и необщительной; девушка рассказывала, что часто приглашала маму поиграть с ней, но та всегда отказывалась. По словам Эстер, в детстве, когда дети ссорились, мать обычно принимала сторону братьев. Вызывающее девиантное поведение Эстер было и скрытым, и явным образом направлено против матери, и на интервью (не говоря уже о данных тестирования) были получены сведения, что сексуальная неразборчивость попадала в ту же категорию. Свой первый сексуальный опыт Эстер получила, когда в тринадцать лет сбежала из дома и уехала автостопом в другой город. Понятно, что ее беременность стала вызовом и одновременно способом заставить мать проявить к ней интерес. Самым привычным методом ослабления тревоги у Эстер было отшучивание — форма поведения, которая в этом контексте может быть рассмотрена как девиантная (иными словами, «меня это не волнует»). Мы обнаружили у Эстер умеренно высокий уровень тревожности и умеренно высокую степень отвержения. В настоящее время ее тревога проистекала из чувства вины по поводу девиантного, вызывающего поведения и сексуальных импульсов (в том числе, возможно, и беременности), которые были поставлены на службу этому поведению. Отвержение в основном проявлялось в отсутствии материнской заботы и заинтересованности, при этом девиантность и непокорность Эстер мотивировались главным образом желанием заставить мать позаботиться о ней. Источником происхождения ее тревоги предположительно является чувство изоляции от матери, а смерть отца стала важным, но второстепенным дополнением к этому факту. Таким образом, Эстер попадала в замкнутый круг: она стремилась преодолеть первичную тревогу (изоляцию) такими способами (девиантностью и непокорностью), которые вызывали еще большую тревогу. Сара и Ада: отсутствие и наличие тревоги у двух чернокожих женщин Сара Сара, чернокожая женщина двадцати одного года, из рабочей среды, родилась в южном штате; ее отец был шахтером, а мать — домохозяйкой. В возрасте четырех лет Сара поселилась в пограничном южном штате у тети и дяди (тоже шахтера), которые любили детей, но не имели своих собственных. Двое из ее пяти братьев и сестер жили вместе с Сарой в доме дяди и тети. Закончив среднюю школу, Сара приехала в Нью-Йорк и в период беременности работала сварщицей на заводе. Сара показалась мне и социальным работникам уравновешенным, сдержанным, независимым человеком. Она воспринимала свои проблемы объективно и умела с ними справляться. Сара строила реалистические планы относительно родов и ухода за ребенком (после его рождения она со временем полностью взяла на себя достаточно трудную задачу по уходу за ним). Девушка твердо намеревалась не принимать материальную помощь от городского департамента финансов и оплатить пребывание в «Ореховом доме» из собственных сбережений. Ей очень нравился молодой человек, отец ребенка, и одно время она собиралась за него замуж. Но когда она забеременела, его отношение к ней стало ненадежным. Во время проживания в «Ореховом доме» Сара уже не хотела ни выходить за него замуж, ни получать от него финансовую поддержку, однако приложила немало усилий, чтобы добиться от него разрешения назвать ребенка его именем. Постоянные отказы молодого человека расстраивали Сару, но она реалистически принимала этот факт и смирилась с ним. Амбиции Сары (что видно из опросников) никогда не принимали агрессивную соревновательную форму. Фактически, еще в школе она выработала принцип «быть не на высоте и не на дне, а где-то в середине» [459]. Работа удовлетворяла ее и очевидно, что работодатели были о ней очень высокого мнения, поскольку оставили за ней место до тех пор, пока она не сможет вернуться на работу после родов. Проблему для Сары представляла единственная ситуация в «Ореховом доме». Дело в том, что ее независимость нередко принимала девиантную форму, причем главным образом при столкновении с расовыми предрассудками. Поскольку Сара и Ада были единственными чернокожими женщинами, проживающими в группе белых, и некоторые из них были не свободны от расовых предубеждений, Сара поначалу держалась в отдалении и большую часть времени проводила в своей комнате. У нее была формула: «Если будешь сторониться людей, сможешь избежать неприятностей». Она вела себя вызывающе по отношению к одному человеку из персонала, который, как ей казалось, был «большим начальником». Сара заявила, что ей не нравилось жить у родителей на юге, потому что там было «слишком много правил и ограничений, и приходилось говорить «мэм» даже своим сверстникам». Девиантность Сары иногда оказывалась значительно сильнее, чем того требовала ситуация (она признавала, что ей казалось, будто ее оскорбляют, в то время как никому и в голову не приходило этого делать). Однако эта ярость не была слепой и возникала только в тех случаях, когда Сара чувствовала, что к ее отношениям с другими людьми примешиваются расовые предрассудки. Тем не менее, обостренную чувствительность и вызывающую независимость этой чернокожей женщины вполне можно понять, если учесть, что она проживала в тесном соприкосновении с группой белых, будучи беременной, в а таком состоянии многие женщины становятся более осторожными и подозрительными. Поэтому я рассматриваю девиантное поведение Сары скорее как осознанный способ приспособления, а не как невротический паттерн. Вполне логично предположить, что эта сознательная девиантность играла позитивную роль, так как с ее помощью Сара приспосабливалась к расовым предрассудкам, не пренебрегая своими возможностями и не отказываясь от психологической свободы. В тесте Роршаха Сара показала себя оригинальной, слегка наивной, экстравертированной личностью с умственными способностями выше среднего[460]. В отношениях с людьми она иногда проявляла угодливость и осторожность, но эти характеристики не принимали невротической формы и являлись скорее сознательными способами адаптации, чем механизмами подавления своей личности. Был отмечен высокий уровень самостоятельности, при этом она точно знала, чего хочет, а чего нет. Сара придерживалась легкомысленного взгляда на жизнь, не воспринимала ее чересчур всерьез и избегала сложностей, отказываясь от глубоких отношений. Но все эти черты не принимали выраженной формы и не ограничивали ее возможности. В целом, перед нами предстала дифференцированная, но неглубокая личность. Конфликты и намеки на невротические проблемы практически отсутствовали. По тесту Роршаха тревожность Сары оценили следующим образом: глубина 1, широта 1, защита 1, в связи с чем ее отнесли к низкой категории по сравнению с другими девушками. По уровню тревоги в детстве и в настоящем времени она попала, соответственно, в низкую и умеренно низкую категории. Главными областями тревоги были амбиции и мнение о ней семьи и друзей. В прошлом Сары не было никаких явных признаков отвержения. Она рассказала, что ее детство, проведенное в собственной семье и у дяди с тетей, было счастливым, и она поддерживала теплые отношения с родителями, дядей, тетей, братьсями и сестрами. В агентстве социальной службы родного города Сары о ее родителях отзывались как о трудолюбивых, ответственных, симпатичных людях, в связи с чем можно предположить, что детство Сары прошло достаточно благополучно. Она не хотела, чтобы родители или дядя с тетей узнали о ее беременности до родов, поскольку предчувствовала, что они захотят помочь ей деньгами, хотя не могут себе этого позволить. Но родители Сары случайно узнали о ее беременности через социальное агентство; Сара очень рассердилась, поскольку это произошло вопреки ее желанию (вспомним вызывающее поведение девушки по отношению к «большим начальникам» или людям, которые «идут по головам»). К счастью, в своих письмах родители выразили ей свое понимание и не собирались осуждать ее. Сара получила низкую оценку по уровню тревожности и в то же время у нее не наблюдалось никаких заметных признаков отвержения. Ее проблемы были объективными и реалистическими, и она справлялась с ними без субъективного конфликта, если не считать обостренной чувствительности к расовой дискриминации и вытекающей отсюда девиантности. Но, учитывая реальное культурное окружение этой чернокожей женщины, такую реакцию также можно считать скорее «нормальной», чем невротической. Отсутствие невротической тревоги у Сары можно объяснить тем, что ни в детстве, ни в настоящее время она не страдала от психологического неприятия в кругу семьи. Но в случае Сары (как и Ады, другой чернокожей женщины) большую роль сыграл также и культурный фактор: в негритянской культуре внебрачная беременность не является такой тревожащей ситуацией, как среди белых женщин. Поэтому для Сары это событие могло просто не ассоциироваться с ситуацией тревоги. Данный фактор может объяснить низкий уровень тревоги у Сары, однако на него нельзя списать ее полное отсутствие. Если бы невротическая тревога присутствовала, тест Роршаха обязательно выявил бы ее, независимо от того, находится или не находится человек в объективно вызывающей тревогу ситуации. АдаВторая обследованная нами чернокожая женщина — Ада, девятнадцатилетняя католичка, большую часть своей жизни прожившая в пригороде Нью-Йорка. В четыре года девочка перенесла смерть отца, и с тех пор она и ее брат младший брат жили на иждивении матери, получая небольшую поддержку от департамента финансов. Ада посещала католическую начальную школу и общеобразовательную среднюю школу. После того как в возрасте семнадцати лет Ада окончила среднюю школу, с мамой случился «нервный срыв от перегрузки», и она уехала к родственникам на юг. Ада с братом переехали в Нью-Йорк к тете. Первоначально Ада собиралась стать нянечкой, но, забеременев, решила устроиться на фабрику, чтобы содержать ребенка. Аду трудно отнести к какому-либо определенному социоэкономическому классу: исходя из некоторых моментов ее прошлого, можно было бы приписать ее к низшему классу, но первоначальная цель Ады стать нянечкой и некоторые ее установки (описанные ниже) типичны для среднего класса. Поэтому мы поместили Аду на границу между низшим и средним классом. Она забеременела от своего ровесника, с которым у нее были близкие отношения еще в средней школе. Судя по описаниям Ады, он вел себя как собственник, ревновал к другим приятелям, и ей часто оставалось только подчиняться. Он признал свое отцовство, но жениться отказался, после чего она, по ее же словам, «выбросила его из головы». На медицинском осмотре у Ады обнаружили сифилис, которым она заразилась от этого молодого человека. В тесте Роршаха Ада предстала как уступчивый, угодливый человек со средними умственными способностями и массой стереотипов, лишенный оригинальности[461]. Больше всего обращало на себя внимание то, что девушка предъявляла к себе высокие требования, однако в них отсутствовало позитивное содержание. Это выглядело так, будто она чувствовала громадную потребность чему-то соответствовать, но не имела собственных целей или представлений о том, чему же именно она должна соответствовать. Условно говоря, она была индивидуумом с сильным Супер-Эго. Стремление подгонять себя под высокие стандарты заставляло ее подстраиваться к ожиданиям окружающих и своим собственным интроецированным ожиданиям. Как следствие, ее спонтанные и бессознательные импульсы (враждебность и сексуальность) были почти полностью подавлены. Ада вполне могла развить в себе умение откликаться на нужды и чувства других людей, но такая отзывчивость вызывала у нее тревогу, потому что при этом она не могла реагировать такими способами, которые соответствовали ее высоким стандартам. Насколько я помню, Ада никогда не говорила о своей мотивации к сексуальным отношениям. Тест Роршаха позволяет предположить, что ею двигали и сексуальные импульсы, и потребность подстраиваться к ожиданиям молодого человека. Возможно, последний мотив был важнее, потому что Аде было необходимо угождать своему сексуальному партнеру, чтобы преодолеть сильное подавление сексуальности. После того как на карточку 7 Ада дала ответ, связанный с гинекологическим обследованием в поликлинике, у нее появились признаки беспокойства и склонность к болтливости, которые продолжались до самого конца тестирования. Это указывало на провал ее попыток жить согласно своим принципам (беременность ассоциировалась с таким провалом), полную путаницу в отношениях с собой и другими людьми и возникновение сильной тревоги. Оценка ее тревожности по тесту Роршаха была такова: глубина 2, широта 4, защита 3, в соответствии с чем Аду можно отнести к высокой категории тревожности по сравнению с другими молодыми женщинами. Ее тревожность в детстве оценили как умеренно высокую, а в настоящем и будущем — как умеренно низкую. Основными областями, где сосредоточивалась тревога, были успехи и неудачи в работе, мнение о ней семьи и лиц, заменяющих родителей, а также тревога в тех случаях, когда учителя и мать ругали ее за нескромность. Для поведения Ады в «Ореховом доме» и ее манеры держаться во время интервью была характерна комбинация угодливости и следования высоким стандартам. Она добросовестно отвечала на все вопросы, но никогда не допускала спонтанного выражения своих мыслей или чувств. Ей всегда можно было доверить выполнение поручений или попросить о помощи в таких делах, которые не требовали проявления инициативы. Поскольку у нее не было такой независимости и девиантных тенденций, как у Сары, она хорошо ладила с белыми женщинами. Во время обучения в школе она всегда получала самые высокие оценки. Ада была довольна тем, что в школе «все буквально вбивают вам в голову — так можно выучить гораздо больше». Истоки потребности Ады придерживаться ригидных принципов можно усмотреть в описании ее матери и их взаимоотношений, а также (хотя и в меньшей степени) ее отношений с тетей. Ада в самых общих выражениях отметила, что во времена ее детства мать была очень «счастливым человеком», но тот факт, что основным симптомом теперешнего «срыва» матери было «беспокойство по любому поводу», позволяет предположить, что она была напряженной и ригидной женщиной. Более явный показатель ригидности матери заключался в том, что с детьми она была очень строга. Ада рассказала, что ее мать часто порола сына «за то, что он не приходил домой вовремя». Саму Аду, по ее словам, наказывали нечасто; она чувствовала, что мать была слишком снисходительна к ней. Однако это утверждение может выражать собственные ригидные стандарты Ады (то есть девушке казалось, что ее должны были бы наказывать гораздо чаще), а не объективным описанием условий ее взросления. Ада была очень послушным ребенком и всегда подчинялась желаниям матери. Если у нее при этом и возникало чувство враждебности, то оно было слабым и эпизодическим. Ада сказала, что научилась успокаивать себя и «преодолевать» свой гнев. Мать и тетя, с которой жила Ада, были глубоко верующими католичками, так же как и она сама. Свою тетю Ада также описывала как очень строгую женщину. На интервью в «Ореховом доме» тетя объяснила, что сознательно старалась привить Аде высокие стандарты и всегда очень гордилась ею. И хотя она не винила Аду за беременность, но тем не менее не хотела бы снова пускать ее в свой дом, потому что это означало бы отступление от тех принципов, которые она воспитывала у своих детей. Если мы примем установки тети как выражение атмосферы семьи, где воспитывалась Ада, то получим словесную формулировку принципа взрослых, на котором предположительно основывается ее психологический паттерн: 1) взрослые стремились привить ей «высокие стандарты»; 2) они гордились ею в той мере, в какой она соответствовала этим стандартам; и 3) они угрожали ей отвержением, если она отступится от этих стандартов. До юношеского возраста у Ады складывались дружеские, но не очень близкие отношения отношения с матерью, и не было заметно открытого отвержения с материнской стороны. С самого детства Ада так успешно усваивала «высокие стандарты» матери и всех окружающих и подлаживалась под них, что у матери никогда не было причины открыто отвергать ее. Во время проживания в «Ореховом доме» Ада ни разу не допустила и мысли о том, чтобы дать знать брату о своей беременности, поскольку была уверена, что он отвергнет ее, а перед тем как написать матери о сложившийся ситуации, она колебалась несколько месяцев. Когда она наконец-то поставила мать в известность, та приняла факт появления ребенка и предложила растить его вместе. Мы обнаружили у Ады умеренно высокий уровень тревожности. Степень ее отвержения изменялась: она испытывала умеренно сильное отвержение со стороны тети и ожидала высокого отвержения со стороны брата. Ада обычно подчинялась материнским требованиям, поэтому трудно оценить, насколько мать отвергала ее, однако есть основания полагать, что Ада очень боялась быть отвергнутой матерью. Следовательно, мы можем предположить, что в их отношениях отвержение потенциально присутствовало. Но главный момент для понимания динамики тревожности у Ады — та отверженность, которую она ощущала перед лицом своих «высоких стандартов». Эти стандарты не были присущими ей, самостоятельно выбранными ценностями, а представляли собой интроекцию формальных ожиданий матери и других членов семьи. Поэтому важной формой ее теперешнего отвержения было отвержение самой себя, при котором «Я» принимало на себя власть родителей. Когда Ада чувствовала, что не соответствует этим интроецированным ожиданиям, у нее происходило фундаментальное нарушение психологической ориентации (очень наглядно показанное в тесте Роршаха), за которым следовали субъективный конфликт и сильная тревога. Тот факт, что мать приняла будущего ребенка, не является аргументом против ее потенциального и скрытого отвержения Ады. В негритянском сообществе рождение внебрачного ребенка не было таким серьезным или позорным событием, как для белых женщин. В случае Ады отвержение как таковое — например, нежелание тети пускать ее в свою квартиру, страх быть отвергнутой братом и отвержение себя самой — возникло не в результате ожидания внебрачного ребенка, а в результате обстоятельств, которые привели к беременности. Что именно в этих обстоятельствах подверглось осуждению, определить трудно, поскольку нарушенные «стандарты» были просто формой без конкретного содержания. Мне кажется, что источником отвержения Ады и психологической дезориентации, скрытой за ее тревогой, является подчинение девушки таким требованиям, которые не совпадали с представлениями матери и заменяющих ее лиц (вспомним ожидания ее молодого человека и ее собственные сексуальные импульсы). Это утверждение подкрепляется тем, что Ада не выражала никакого чувства вины по поводу сексуальных отношений и беременности. По-видимому, ее тревога напрямую проистекала из психологической дезориентации, которая, в свою очередь, началась после того, как она пренебрегла ожиданиями матери. В рассмотренных ранее случаях мы выяснили, что конфликт, скрытый за невротической тревогой, может быть представлен как разрыв между реальностью и ожиданиями человека, которые прежде всего касаются отношений с родителями. В случае Ады за тревогой также лежал явный конфликт, но он принимал несколько иную форму: это был разрыв между реальной ситуацией и ее интроецированными ожиданиями по отношению к себе самой[462]. Тревога Ады была вызвана не чувством вины за сексуальные отношения или беременность, а, скорее, психологической дезориентацией, с которой она столкнулась, последовав авторитету и ожиданиям, отличающимся от стандартов ее матери. Можно предположить, что Ада не испытывала бы тревогу, если бы последовала ожиданиям матери, хотя бы в их интроецированной форме. Но случай Ады достаточно ясно демонстрирует нам неэффективность такой защиты от тревоги. Чтобы таким образом освободиться от тревоги, ей пришлось бы забыть про собственные желания и никогда не считаться ни с кем, кроме матери. Но поскольку подчинение было для нее обычным способом строить взаимоотношения с людьми, ее психологические паттерны подвергались бы постоянной опасности. Этот случай иллюстрирует дилемму человека, чья свобода от тревоги основывается на подчинении авторитету, который не считается с его автономностью. Сравнение Сары и Ады проливает свет на описанную динамику невротической тревоги. Для обеих чернокожих женщин факт внебрачной беременности не представлял собой такую тревожащую ситуацию, как для белых женщин. Обе они продемонстрировали склонность уступать: для Сары уступчивость являлась осознанным способом приспособления, особенно к расовым предрассудкам, но почувствовав, что уступки угрожают ее независимости, то защищала свою автономность и самооценку путем сознательной девиантности. У Ады уступчивость была как сознательным, так и бессознательным паттерном, а ее самооценка и самопринятие зависели от того, насколько ей удавалось соответствовать ожиданиям — прежде всего, ожиданиям матери. У Сары чувство отверженности родителями если и присутствовало, то в очень незначительной степени; Ада испытывала сильное чувство отверженности в форме отвержения самой себя перед лицом интроецированных стандартов. У Сары практически не возникало субъективных конфликтов и тревожности. У Ады был сильный субъективный конфликт между интроецированными ожиданиями и реальной ситуацией, который привел к фундаментальной психологической дезориентации и возрастанию тревоги до умеренно высокого уровня. Ирен: тревога, сверхстарательность и застенчивость Девятнадцатилетняя Ирен была приемной дочерью довольно пожилых родителей, представителей среднего класса. Семья всегда жила за городом и, поскольку у Ирен не было братьев и сестер, до поступления в школу она была достаточно одинокой девочкой. Она забеременела от своего жениха, с которым поддерживала близкие отношения со времени учебы в школе. Ирен рассказала, что родители никогда открыто не возражали против ее увлечения, но не одобряли этот выбор, потому что родители жениха держали винный магазин. Несколько сексуальных контактов с женихом произошли после окончания школы и как раз перед тем, как они собрались пожениться. Основными чертами Ирен, которые выявил тест Роршаха, были чрезвычайная добросовестность, застенчивость в общении и тенденция к отстранению, усиленный самоконтроль, склонность цепляться за старые увлечения (что в основном связано с ее одиночеством в прошлом) и в то же время достаточная оригинальность[463]. Длинные паузы, в течение которых она прилежно изучала карточки, как будто молчаливо рассматривала и отклоняла возможные ответы, частично объяснялись трудностями самовыражения, но наряду с этим указывали и на ее компульсивную добросовестность. Эти непреодолимые старания делать все как можно лучше требовали таких усилий, что заметно снижали ее продуктивность. Она легко принимала свои внутренние импульсы, но в эмоциональные отношения с другими людьми вступала очень осторожно. Робость, отстраненность и осторожность можно было отчасти объяснить культурно обусловленными трудностями самовыражения и отзывчивости — Ирен сама списывала эти черты на то, что была «простой деревенской девушкой». Но на более глубоком уровне осторожность служила защитой от вызывающих тревогу эмоциональных связей с людьми, и тревога проявлялась в основном в ее добросовестности. Со стороны это выглядело так, будто Ирен могла строить отношения с людьми, только стараясь быть безукоризненной и соответствовать каким-то высоким стандартам. Однако, когда при тестировании ей удавалось прорваться сквозь свою робость и осторожность и отреагировать на внешние стимулы, ее тревожность и сверхстарательность снижались. Это означает, что ее сверхстарательность служила защитой от ситуаций, вызывающих тревогу. Оценка тревожности Ирен по тесту Роршаха была следующей: глубина 4, широта 2, защита 2. Соответственно, ее отнесли к умеренно высокой категории по сравнению с остальными молодыми женщинами. Уровень ее тревоги, отмеченный в опросных листах по детскому возрасту и настоящему времени, попадает в низкую категорию, но это произошло благодаря той же блокировке самовыражения, которая проявилась и при тестировании. В первом листе преобладала тревога по поводу успеха и неудачи в работе, а опасения фобического характера занимали второе место. В последнем листе главной областью тревоги опять-таки были успех и неудача в работе, а на втором месте стояло мнение о ней семьи. Очевидно, что компульсивная добросовестность Ирен сопутствовала ей на протяжении всей жизни. Она рассказала, что закончила среднюю школу ценой неимоверных усилий и после этого перенесла непродолжительный «нервный срыв». Вот еще один пример: Ирен всегда очень старалась не выбирать себе друзей из «более низкого социального класса», чем тот, к которому принадлежала сама. В беседах она также старалась угодить, но, как мне показалось, не столько с целью заслужить мое одобрение, сколько для того, чтобы соответствовать собственным стандартам поведения. Родители Ирен были очень консервативны: они не одобряли танцы, курение и посещение кино. Тем не менее, в этом отношении они явно предоставили ей свободу. Ирен посещала более либеральную церковь, ходила на танцы и в кино, не вступая в открытые конфликты с родителями, но испытывая внутреннее сопротивление. Она описала свою мать как человека, который всегда «слишком много беспокоится». На интервью в «Ореховом доме» мать назвала Ирен «маленькой маминой девочкой», и обе они признали, что мать всегда стремилась опекать и баловать свою дочь. Беременность Ирен расстроила и удивила родителей, но они приняли этот факт и поддержали Ирен в ее намерениях. Однако они по-прежнему вели себя как родители, которые заботятся о маленьком ребенке. В атмосфере их семьи преобладал эмоциональный вакуум: родители не ссорились ни между собой, ни с Ирен. Они никогда не шлепали ее, но когда она в детстве совершала какие-то проступки, они беседовали с ней, а потом заставляли смирно сидеть на стуле — «чтобы выпустить пар», как выразилась Ирен. Понятно, что недостаток взаимного обмена эмоциями и отсутствие выхода для эмоций в детстве плюс вера родителей в жесткие стандарты заложили основу для развития у Ирен сильного чувства вины. Очевидно также, что чувство вины было важным мотивом добросовестности Ирен. Она рассказала, что в детстве всегда была очень одинокой. Извинившись за свои слова, она заявила, что была более близка с двумя своими собаками, чем с родителями. Она никогда не чувствовала, что они с матерью понимают друг друга и ни разу не говорила с матерью по душам. Ее увлечение и сексуальные отношения с мальчиком, которого не одобряли ее родители, по-видимому, мотивируются подавленной враждебностью к родителям, особенно к матери, и потребностью восполнить недостаток теплоты и понимания в семье. В последующих беседах в «Ореховом доме» Ирен выражала сильную враждебность и обиду на мать, особенно упирая на то, что мать нянчилась с ней, но проявляла так мало понимания и доверия. Ирен очень конструктивно воспользовалась предложенной ей в «Ореховом доме» терапевтической помощью. Через несколько месяцев она сообщила, что удачно поступила в колледж и с энтузиазмом осваивается там. Хотя в случае Ирен не было физического отвержения (например, наказания), имелись бесспорные доказательства того, что девушка переживала сильную эмоциональную отверженность и одиночество. Поэтому мы оценили отвержение ее родителями как умеренно высокое. На основании ярко выраженных симптомов тревожности — сверхстарательности, отстраненности, осторожности и робости — наша общая оценка ее тревоги была также умеренно высокой. Хотя на первый взгляд эти черты характера объяснялись ее одиночеством в детстве, на более глубоком уровне отстраненность, добросовестность и осторожность можно рассматривать как попытку приспособиться к вызывающим тревогу отношениям с родителями. Отстраненность и застенчивость в общении, возможно, были защитой от эмоционально холодной атмосферы в семье, а ее сверхстарательность я рассматриваю как попытку приспособиться к тому, что родители не примут ее, пока она не подчинится их ригидным стандартам. Субъективный конфликт Ирен, скрытый за тревогой, также подпитывался эмоциональным вакуумом и непрочностью связей в семье. Родители не только открыто подавляли свою собственную агрессию, но и не давали Ирен возможности выступить против них (например, «беседы» с ней и приказ смирно сидеть на стуле свидетельствуют об авторитарном подавлении ее обиды и враждебности). Я уже отметил, что, несмотря на якобы предоставленную ей родителями свободу выбора, при совершении собственного выбора Ирен испытывала сильное чувство вины — такое же, как и в состоянии подавленной враждебности. Можно предположить, что это чувство вины отчасти обусловливает ее компульсивную добросовестность. Субъективный конфликт и чувство вины у Ирен были столь психологически сильны, потому что она никогда не разрешала себе ощутить осознанную враждебность к родителям. Поэтому Ирен не смогла найти объективного фокуса для своего чувства вины, в отличие от Луизы и Бесси, непосредственно переносивших наказания от родителей. Глава десятая Обзор материалов исследования клинических случаев
Какие критические моменты затронуты в клинических случаях, описанных в двух последних главах? Какие идеи, помогающие нам в понимании тревоги, можно из них извлечь? Тревога, скрывающаяся за страхом В самом первом из рассмотренных случаев мы заметили, что страх заболеть раком преподносился Брауном как «реалистический» и «рациональный». Он отрицал, что страх имеет какое-либо отношение к скрытой за ним тревоге. Но мы отметили, что этот страх регулярно проявлялся на начальном этапе приступа тревоги. Мы также обнаружили, что тревога не проявлялась, пока мысли Брауна были заняты боязнью заболеть раком, а когда возникали тревожные сны и осознанная тревога (это обычно происходило несколько дней спустя), страх уменьшался. Таким образом, сам собой напрашивается вывод, что страх заболеть раком являлся провозвестником надвигающегося приступа тревоги, а также способом скрыть тревогу, заместив ее опасениями, которые выглядели рационально и реалистично. Приступ тревоги, начало которого отмечалось, как мы уже сказали, появлением страха заболеть раком, обычно был связан с какой-то стороной конфликта с матерью, на котором основывалась невротическая тревога Брауна. Если бы он мог постоянно хвататься за свой страх (или, предположим, если бы у него действительно был рак), то скрытый конфликт и тревога были бы устранены. Тогда Браун мог бы лежать в больнице и получать уход, не испытывая чувства вины, и кроме того, он отомстил бы своей матери, поскольку ей пришлось бы содержать его. Таким образом, несмотря на очевидные поверхностные различия в содержании между боязнью ракового заболевания и конфликтом с матерью, между невротическим страхом и скрытой невротической тревогой существует логичная и субъективно последовательная связь. И в самом деле, не была ли проблема с матерью символическим «раком» для Гарольда Брауна? В случае Хелен мы предположили, что страх перед родами был объективацией скрытой тревоги, связанной с подавленным чувством вины по поводу беременности. На мой взгляд, эта тревога была вынесена наружу. Пока опасения Хелен можно было списать на возможные страдания при родах — этот фокус страха мог быть легко воспринят ею как рациональный, — она не сталкивалась с более трудной проблемой конфронтации со скрытым чувством вины. Даже само признание чувства вины поставило бы под угрозу всю систему ее психологических стратегий защиты и спровоцировало бы у нее острый конфликт. Эти случаи показывают, что страхи являются внешним, конкретизированным средоточием лежащей в их основе тревоги. Невротический страх столь преувеличен именно благодаря скрытой за ним невротической тревоге. Также стоит отметить, что а) содержание конкретного невротического страха выбирается субъектом не случайно и не наугад, а имеет последовательную и субъективно логичную связь с паттерном скрытого конфликта и невротической тревоги данного субъекта; и б) невротический страх выполняет функцию сокрытия лежащего в его основе тревожащего конфликта. В начале своего исследования незамужних матерей я предположил, что невротические страхи будут меняться вместе с изменением жизненных задач и проблем, стоящих перед человеком, но невротическая тревога останется относительно постоянной. Как говорилось ранее, одной из целей повторного предъявления теста Роршаха и опросных листов после родов было определение сдвигов фокуса тревоги после рождения ребенка. Мы получили некоторые данные в пользу этой гипотезы. В случаях Хелен, Агнес, Шарлотты, Фрэнсис и Долорес, когда было возможно продолжить обследование и провести повторное тестирование после родов, результаты показали, что невротическая тревога слегка снизилась, но конкретный паттерн тревоги остался прежним. Незначительное изменение фокуса было очевидным: например, у Хелен тревога, сосредоточенная на родах, заметно уменьшилась и по сравнению с первым тестированием несколько усилилась тревога по поводу отношений с мужчинами. У Фрэнсис произошел переход от ригидной защиты (путем подавления) при вызывающих тревогу ситуациях в отношениях с мужчинами к большему принятию возможности таких отношений и более явным признакам тревоги. Но подтверждающие гипотезу данные настоящего исследования весьма ограничены. Случай Брауна проливает свет на то, почему в исследовании незамужних матерей было невозможно получить больше данных об изменении фокуса невротической тревоги (в дополнение к тому факту, что мы не могли обследовать большую часть женщин после родов). В его случае, который изучался нами на протяжении двух с половиной лет, изменения фокуса тревоги были очевидными и приведенная выше гипотеза могла быть четко доказана. Отметим, что нами был зафиксирован интересный феномен: за сильными приступами тревоги у Брауна следовала передышка на одну или несколько недель, несмотря на то, что его скрытые конфликты подошли к разрешению не намного ближе, чем во время тревоги. Тот факт, что после периода сильной тревоги на некоторое время наступает передышка, хотя скрытый конфликт не разрешен, ставит перед нами сложную проблему. Напрашивается объяснение, основанное на чувстве вины, которое является частью тревоги. По моим наблюдениям, внутренний конфликт, скрытый под невротической тревогой, обычно включает в себя большую долю чувства вины, часто неуловимого, но всеобъемлющего. В случае Брауна было очевидно, что он переживал сильную вину перед матерью, когда поводом для тревоги служили его собственные достижения, и сильную вину перед самим собой, когда поводом была его зависимость. Возможно, чувство вины временно облегчается тем, что человек стойко переносит болезненные переживания, связанные с тревогой. Следовательно, тревога, вызванная чувством вины, тоже временно исчезает. Это похоже на то, как если бы человек думал: «Я заплатил высокую цену; теперь я заслужил немного спокойствия». После периода передышки невротическая тревога возникала снова и обычно имела новый фокус. Поэтому мы можем считать, что исследование незамужних матерей после родов было не настолько длительным, чтобы обнаружить новый фокус тревоги, который может предположительно возникнуть, когда, скажем, молодая женщина включится в работу или завяжет знакомство с другим мужчиной. Следовательно, данные настоящего исследования подталкивают нас к принятию гипотезы о том, что фокус невротических страхов меняется, в то время как скрытый паттерн невротической тревоги остается постоянным. Но между тем данные не настолько точны, чтобы служить доказательством обозначенной гипотезы. Анализ случаев продемонстрировал, что тревога и враждебность (скрытая и явная) нарастают и спадают совместно. Когда субъекты (скажем, Браун и Агнес) испытывали более сильную тревогу, они проявляли больше скрытой или явной враждебности, а когда тревога стихала, то же самое происходило и с враждебностью. Как мы видели, одна из причин этой взаимосвязи заключается в том, что сильная боль и беспомощность в состоянии тревоги способствуют агрессии в адрес тех людей, которых человек считает ответственными за свое состояние. Мы отметили еще одну причину этой взаимосвязи, которая состоит в том, что враждебность (особенно подавленная) ведет к тревоге. У Брауна подавленная враждебность к матери порождала тревогу, потому что если бы агрессия получила выход, то он лишился бы человека, от которого зависит. Таким образом, когда у людей с невротической тревогой возникает враждебность, она обычно подавляется и находит выражение в форме усиленного стремления радовать и ублажать окружающих. Наиболее заметно это в случае Нэнси, самой тревожной женщины в нашем исследовании, которая великолепно научилась угождать людям и делать им приятное. Однако у нас был и такой случай (Агнес с садомазохистской структурой характера), когда враждебность и агрессия использовались как защита от вызывающих тревогу ситуаций. Своим враждебным и агрессивным поведением Агнес пыталась заставить своего друга не бросать ее и не усиливать таким образом ее тревогу. Конфликт как источник тревоги Каждый раз, обнаруживая невротическую тревогу, мы находили также и субъективный конфликт[464]. На первый взгляд, их соотношение достаточно легко увидеть и объяснить. В тех случаях, где выраженная невротическая тревога не проявлялась (случаи Бесси, Луизы, Сары, Филлис, Шарлотты), заметный субъективный конфликт также отсутствовал. Но давайте займемся более интересным вопросом: «Так как же обстоят дела с конфликтом?» Конфликт принимал множество разных форм в зависимости от конкретного случая. Приведу только три примера: в случае Брауна субъективный конфликт заключался, с одной стороны, в его потребности достичь некоторой автономии и полагаться на собственные силы, но с другой стороны — в его уверенности в том, что он будет убит собственной матерью, если начнет использовать свои силы. Соответственно, его поведение характеризовалось огромной зависимостью от матери (и заменяющих ее лиц) и одновременно враждебностью по отношению к ней. Каждый раз, когда конфликт обострялся, у Брауна возникали чувства неадекватности, беспомощности и сопутствующей им тревоги, а способность к действию парализовалась. У Хелен был конфликт между чувством вины и желанием казаться стоящей выше правил морали и интеллектуально изощренной (от этого зависела ее самооценка). У Нэнси конфликт проявился в том, что ей требовалось полностью зависеть от окружающих, чтобы чувствовать себя в безопасности, в то время как сама она считала всех людей ненадежными. Ситуации, которые провоцировали конфликт в каждом случае, — например, зависимость и собственный успех для Брауна; вина в связи с беременностью для Хелен; отношения с женихом для Нэнси — были ситуациями, вызывающими тревогу. В наших исследованиях сильная тревога всегда сопутствовала внутреннему конфликту, и именно обострение конфликта провоцировало невротическую тревогу. Кроме того, возникает вопрос об отношении между конфликтом и угрозой, которую предчувствует индивидуум. Данные настоящего исследования не противоречат общепринятому положению, что тревога — и нормальная, и невротическая — всегда включает в себя предчувствие угрозы. При нормальных тревоге и страхе предвидение угрозы может считаться основной причиной для возникновения опасений. Примером может служить тревога о смерти. Вспомним наше разделение тревоги и страха: когда под угрозу поставлены значимые ценности, возникает реакция тревоги; когда под угрозой оказываются второстепенные ценности, следует реакция страха. Но для возникновения невротической тревоги необходимы два условия: 1) под угрозой должны находиться жизненно важные ценности; и 2) угроза должна сопровождаться другой угрозой. При этом человек не может избежать одной опасности без столкновения с другой. В паттернах невротической тревоги ценности, важные для существования человека как личности, противоречат друг другу. Если Браун станет полагаться на свои силы, он встретится со смертью, а зависимость от матери он может сохранить только ценой продолжающегося ощущения никчемности и полной беспомощности, что является почти такой же серьезной угрозой, как и смерть. Другой пример: Нэнси столкнулась с угрозой отвержения матерью и женихом, которых считала ненадежными, но, с другой стороны, ей угрожала неспособность существования без поддержки окружающих. Суть ощущения самого себя «как в ловушке» при невротической тревоге заключается в том, что индивидуум встречается с угрозой отовсюду, куда бы он ни повернулся. Таким образом, рассмотрение природы угрозы, которую предчувствует человек при невротической тревоге, позволяет обнаружить тот факт, что угроза присутствует на обоих полюсах конфликта. В вышеописанных случаях была также рассмотрена еще одна проблема — различие между поводом и причиной невротической тревоги. (Слово «повод» используется здесь для обозначения события, которое предшествовало тревоге.) Было замечено, что у Брауна поводом для невротической тревоги часто служили ситуации, с которыми он мог успешно справиться и реально справлялся, например, выполнение учебных заданий. Таким образом, в этих ситуациях повод нельзя было объединить с причиной тревоги. Но по мере усиления тревоги Браун все решительнее настаивал на том, что повод не имеет к тревоге никакого отношения, что он «боится всего», «боится жизни». Хотя ретроспективно можно было показать психологически последовательную связь между конкретным поводом для приступа тревоги и самой тревогой, тем не менее упорное разделение повода и причины было не лишено логики. При невротической тревоге повод значим в том смысле, что он провоцирует обострение скрытого невротического конфликта, но причиной тревоги является сам конфликт. Как мы увидели на примере Гарольда Брауна, все поводы, вне зависимости от их кажущейся объективной важности, всегда имеют субъективно логическое отношение к данному внутреннему конфликту конкретного индивидуума. Другими словами, поводы важны для тревожащегося субъекта в силу того, что именно они и только они обостряют имеющийся невротический конфликт. Я полагаю, что нашу гипотезу можно сформулировать следующим образом: чем больше переживание тревоги приближается к нормальному, тем больше повод (предшествующее событие) и причина тревоги совпадают; но чем более невротической является тревога, тем легче развести повод и причину. Например, пассажир корабля, плывущего в нашпигованных подводными лодками водах, тревожится, как бы его корабль не подбили торпедой. Такая тревога может оказаться реалистичной и соответствующей ситуации, а повод — страх попадания торпеды — со всей очевидностью может быть убедительным объяснением для тревоги. Но, с другой стороны, у людей с сильной невротической тревогой ее приступ может быть моментально вызван случайным словом приятеля, неприветливым взглядом прохожего, мимолетным воспоминанием. Итак, чем более невротической является тревога, тем труднее объяснить ее объективным поводом и тем важнее для нас проникнуть в собственную интерпретацию ситуации субъектом, чтобы найти подходящую причину его тревоги. В таких случаях обычно говорится, что тревога не соответствует ситуации. Она расходится с поводом, но не расходится с причиной, то есть с тем внутренним конфликтом, который обостряется поводом. Мой опыт работы со случаями наиболее сильной тревоги — например, с пограничными психотиками — показал, что с объективной точки зрения повод практически совсем не оправдывает силу тревоги, а причина может быть почти полностью субъективной. Ранее я в основном обсуждал невротическую тревогу и лежащие за ней конфликты. Но не кажется ли вам, что мы подошли к той области, где уже больше нельзя разграничивать нормальное и невротическое? Разве эти конфликты не присущи всем нам в большей или меньшей степени? И неужели все эти конфликты не противоречат друг другу хотя бы в одной точке? В конце концов, любая тревога порождается конфликтом, корни которого тянутся к изначальному конфликту между бытием и небытием, между существованием и тем, что ему угрожает. Все мы, вне зависимости от степени нашей «нормальности» или «невротичности», ощущаем разрыв между нашими ожиданиями и реальностью. Это разделение теряет свою значимость, и мне кажется, нам лучше рассматривать тревогу без всяких ярлыков, а именно — как часть истинно человеческого способа существования. Родительское отвержение и тревога Этот вопрос рассматривается на материале обследования тринадцати незамужних матерей. Проведенные с ними интервью были прежде всего направлены на выяснение связи между степенью неприятия каждой молодой женщины родителями (особенно матерью) и уровнем ее невротической тревоги на данный момент. Если расположить оценки степени отвержения родителями и уровня тревожности в две параллельные колонки, то можно немедленно обнаружить следующее: 1) у большинства девушек отвержение и тревога строго соответствуют друг другу; но 2) у некоторых девушек такое соответствие отсутствует. В девяти случаях — Нэнси, Агнес, Хелен, Эстер, Фрэнсис, Ирен, Ады, Филлис и Сары — уровень тревожности попадает в ту же категорию, что и степень отвержения. В этой группе каждый зафиксированный случай родительского отвержения сопровождался всплеском невротической тревоги примерно той же силы. Данные исследования этих случаев свидетельствуют в пользу классической гипотезы: отвержение родителями (прежде всего матерью) создает у индивидуума предрасположенность к невротической тревоге. Но в двух других случаях — Луизы и Бесси — наблюдалась прямо противоположная картина. Этим молодым женщинам довелось испытать глубокое родительское отвержение, тем не менее, у них не наблюдалась тревога соответствующего уровня. Долорес также попадает в эту группу, хотя пережитое ею неприятие не было столь сильным и непреодолимым, как у двух других девушек. 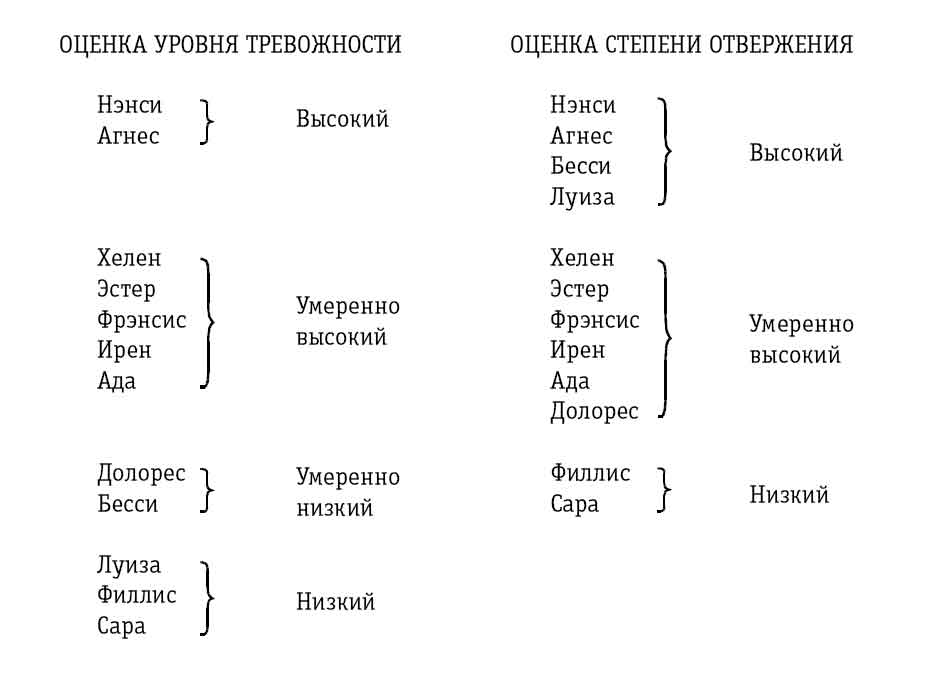 Ключ к этой сложной, но увлекательной проблеме можно найти, углубившись в психологическое значение отвержения. Поэтому нам следует рассмотреть сначала те случаи, когда тревога сопутствовала отвержению, а потом — те, когда этого не наблюдалось, и каждый раз задаваться вопросами: каким образом человек субъективно интерпретировал это отвержение? И каково соотношение между реальностью и его ожиданиями от жизни? Людей, подпадающих под нашу гипотезу, прежде всего характеризует то, что они всегда воспринимали отвержение на фоне высоких требований к родителям. У них проявлялось то, что я называю противоречием между ожиданиями и реальностью в отношениях с родителями. Они никогда не могли принять отвержение как реальный, объективный факт. Нэнси рассказывала, как мать безрассудно оставляла ее одну и «больше занималась хождением по барам, чем своим ребенком», но немедленно добавляла: «Она могла бы быть такой хорошей матерью». К тому же Нэнси не уставала повторять, что иногда в детстве ее мама была «хорошей», несмотря на неоспоримые доказательства того, что мать всегда обращалась с ребенком безответственно. Случай Нэнси позволяет вывести еще одно заключение, справедливое и для всех остальных случаев: идеализированные ожидания, с одной стороны, и чувство отверженности, с другой, усиливают друг друга. В случае Нэнси (как и в других случаях) идеализация способствовала сокрытию реального отвержения, но в свете идеализированных ожиданий ее чувство отверженности становилось еще болезненнее. У других молодых женщин также наблюдается похожее расхождение между надеждами и действительностью. Хелен говорила, что мать «нелояльна» к ней, подразумевая, что мать может и должна вести себя иначе. Фрэнсис идеализировала родителей, называла их «чудесными» и «милыми», сохраняя идеализацию в форме «сказочного» мотива и стараясь подавить сильную враждебность и присущее приемному ребенку чувство изолированности. Более того, у этих молодых женщин проявлялась так называемая ностальгия по родителям, основанная на представлении о том, что «могло бы быть», если бы родители были другими. Ностальгия являлась как частью идеализированных требований к родителям, так и способом закрыть глаза на реальную ситуацию во взаимоотношениях с родителями. Эстер выразила эту ностальгию в несколько иной форме: «Если бы мой папа не умер, меня миновали бы все эти неприятности». Кроме того, молодые женщины до сих пор ждали и лелеяли надежду на то, что их родители изменятся, насколько бы нереальным это ни казалось. Эстер постоянно вела себя вызывающе, чтобы заставить мать обратить на себя внимание. Агнес, хотя и знала, что отец никогда раньше не проявлял к ней подлинную заботу, поехала повидаться с ним, теша себя пустой надеждой, что он вдруг переменится. Казалось, что эти молодые женщины до сих пор ведут с родителями прежние битвы. Подведем итоги. В случаях, соответствующих классической гипотезе, по которой неприятие сопровождается невротической тревогой, мы каждый раз обнаруживаем следующее: отвержение никогда не принималось как объективный факт, но противопоставлялось идеализированным требованиям к родителю. Молодая женщина не могла воспринимать родителя реалистически и всегда смешивала реальную ситуацию со своими ожиданиями относительно того, каким родитель может или должен стать[465]. Теперь возникает вопрос: каково происхождение субъективного конфликта? Мы видели, например, что тревога у Нэнси проявляется в форме конфликта между желанием полностью зависеть от любви жениха и неослабевающими сомнениями в том, можно ли положиться на его любовь. Тот же самый конфликт имел место в детстве, в ее отношениях с матерью. Отношение Фрэнсис к своему другу включали идеализацию и подавленную враждебность в таком же сочетании, что и отношение к родителям. Завершая ряд примеров, отметим, что конфликт, который впоследствии проявляется в виде чрезмерной тревожности, — это тот же основной конфликт, который был и существует до настоящего времени в отношениях молодой женщины с ее родителями[466]. Таким образом, первоначальный конфликт с родителями был интроецирован, интериоризован (т. е. стал субъективным конфликтом), что вылилось во внутреннюю травму молодой женщины и фундаментальную психологическую дезориентацию в ее отношениях к себе и к другим людям. Он стал не только источником постоянных обид на родителей, но и поводом для непрекращающихся самообвинений. Нельзя просто сказать, что исходный конфликт с родителями впоследствии активизировал у молодой женщины тревогу. Точнее, исходный конфликт с родителями определяет структуру характера индивидуума в плане межличностных взаимодействий, и в дальнейшем человек справляется со всеми своими жизненными ситуациями в соответствии с этой структурой характера. Например, понятно, что если человек смешивает реальность и свои ожидания по отношению к родителям, он не будет готов реалистически оценивать и свои отношения с другими людьми. Следовательно, он будет подвержен постоянной тревоге и приступам субъективного конфликта. Совершенно противоположная картина обнаруживается у тех молодых женщин, которые испытывали отвержение, но не выказывали выраженной невротической тревоги — у Бесси, Луизы и отчасти Долорес. Примером различия между реакцией на отвержение этих молодых женщин и женщин из предыдущей группы может служить удивление Долорес, когда психолог спросил, не расстраивало ли ее в детстве, что отец никогда с ней не играл. Для любой молодой женщины из первой группы такой вопрос был бы наполнен глубоким смыслом и в большинстве случаев послужил бы сигналом для выплескивания своей обиды на родителей. Однако Долорес такой вопрос просто никогда не приходил в голову. Молодые женщины никогда не тешили себя идеализированными надеждами по поводу родительского отношения; они воспринимали их реалистически. Луиза и Бесси считали своих матерей жестокими и ненавидящими, какими они и были на самом деле. Ни одна из девушек не питала иллюзий, что кто-то из родителей какое-то время был «хорошим» или на следующий день станет любящим. Луиза и Бесси воспринимали неприятие как объективный факт; Луиза беспристрастно назвала его «тяжкой долей», а Бесси предпринимала шаги, чтобы добиться любви не родителей, а других людей. Ни одна из девушек не позволяла родительскому отвержению влиять на ее поведение. В детстве Бесси начинала играть с братьями, несмотря на подчеркнуто непризненное отношение к этому ее отца, а Луиза отказывалась выражать фальшивую привязанность к матери, которую не любила. У этих молодых женщин не было противоречия между ожиданиями и реальностью в отношениях с родителями. Те конфликты, которые происходили у них как с родителями, так и с другими людьми, имели объективную, осознанную причину. Они не испытывали невротической тревоги главным образом потому, что их отвержение не было интроецировано; оно не сделалось источником субъективного конфликта и, следовательно, не нарушило их самовосприятие и восприятие ими других людей. Пропасть между ожиданиями и действительностью Данное исследование подтверждает гипотезу о том, что конфликт, лежащий в основе невротической тревоги, проистекает из отношений индивидуума с родителями, и опровергает предположение, что отвержение как таковое предрасполагает к невротической тревоге. Скорее, источник предрасположенности к невротической тревоге лежит в таких взаимоотношениях ребенка с родителями, при которых ребенок не может реалистически воспринимать отношение к нему родителей и не способен принять объективное отвержение. Невротическая тревога возникает не по вине «плохой» матери, выражаясь словами Салливана, а из-за того, что ребенок постоянно сомневается, «хорошая» у него мать или «плохая»[467]. Конфликт, лежащий в основании невротической тревоги, вызывает родительское неприятие, скрытое под притворной любовью и заботой. Родители Луизы и Бесси — действительно карающие и жестокие — по крайней мере не пытались утаить свою ненависть к детям. Современный психоаналитик Мелитта Шмидеберг задается вопросом, почему дети теперешних родителей, которые гораздо более снисходительны к ним, намного тревожнее детей строгих, жестких родителей викторианской эпохи. Она видит причину в том, что современные родители не разрешают детям бояться их, и, следовательно, ребенку приходится замещать свой страх и враждебность и переживать сопутствующую тревогу. Если родители не могут воздержаться от наказаний, продолжает доктор Шмидеберг, они по крайней мере должны дать ребенку право бояться их (см. ее Anxiety states, Psychoanal. Rev., 1940, 27:4, 439—49). Не углубляясь в проблему сравнения тревоги в разные эпохи и не вдаваясь в сложные объяснения, мы, тем не менее, считаем, что замечание доктора Шмидеберг о том, что нужно разрешать ребенку воспринимать отношения реалистически, звучит разумно. Следовательно, Луиза и Бесси смогли принять отвержение как таковое и, как показано в случае Бесси, искать отношений любви и поддержки в другом месте. Таким образом, когда матери Луизы и Бесси в детстве и юности отвергали их, это не ставило под угрозу никаких жизненно важных ценностей; они в любом случае не ждали от родителей ничего лучшего. Высказывание Луизы: «Ребенок не страдает, он принимает вещи такими, какие они есть» — может означать, что если ребенок способен, как она, назвать отношения с матерью своими именами, он не страдает в главном — не ощущает угрозу жизненным ценностям. Но у молодых женщин с субъективным конфликтом отвержение прикрывалось идеализированными ожиданиями (которые в основном подпитывались неискренностью родителей перед ними в детстве), и, следовательно, они не могли приспособиться к нему в реальности[468]. На основании этих наблюдений можно разделить родительское отношение на три типа. Первый: родитель открыто отвергает ребенка, и это отвержение признается обеими сторонами. Второй: родитель отвергает ребенка, но маскирует отвержение фальшивой любовью. Третий: родитель любит ребенка и ведет себя с ним соответственно. Данные исследования подтверждают, что именно второй тип отношений предрасполагает к невротической тревоге[469]. Обсуждаемая нами проблема столь важна, что я хотел бы привести некоторые аналогичные находки, сделанные в исследовании Анны Харток Шахтель. Описывая одну девочку, мать которой отвергала ее, но притворялась любящей и ревновала к любимой бабушке девочки, миссис Шахтель утверждает: «Этот ребенок окружен фальшью: ей приходится избегать встречи с реальной ситуацией отсутствия любви; она живет мечтами и вынуждена основывать свои увлечения, страхи, ожидания и желания на этом шатком фундаменте». Этот ребенок очень напоминает описанных нами женщин из первой группы. Миссис Шахтель рассказывает еще об одной девочке, росшей без отца, которую дома часто били и говорили, что она причиняет одни неудобства. «Отсутствие любви для нее было фактом, но это никоим образом не уменьшает ее собственную способность любить». Она была независимой, довольно упорной, агрессивной, настроенной на сотрудничество и надежной девочкой, которая «не преуменьшала и не приукрашивала бесчеловечное и враждебное обращение с ней». Эта девочка кажется мне очень похожей на Бесси. Как и Бесси, она обрела любовь друзей, братьев и сестер, несмотря на родительское неприятие. Миссис Шахтель подчеркивает, что «для ребенка быть нелюбимым лучше, чем пользоваться псевдолюбовью». Находки, сделанные в нашем исследовании, доказывают правильность этого утверждения с точки зрения предрасположенности к тревоге[470]. Можно ли охарактеризовать тревогу вообще как явление, которое мы обнаружили в отношениях молодых женщин с родителями, — как субъективную дезориентацию, проистекающую из глобального противоречия между ожиданиями и реальностью? Является ли она фундаментальной дезориентацией, неспособностью ориентироваться в мире, невозможностью видеть его таким, каков он есть на самом деле? Эти вопросы выводят нас далеко за пределы настоящей дискуссии. Но я могу дать на них правдоподобный ответ, имеющий как психологический, так и философский аспекты. Дональд МакКиннон предложил описание тревоги, которое созвучно вышеприведенной гипотезе, несмотря на некоторые топологические детали, остающиеся под вопросом:
Невротическая тревога и средний класс И последний вопрос возникает в связи с тем, что все молодые женщины из первой группы — то есть с невротической тревогой — принадлежали к среднему классу, а девушки из второй группы, которые подвергались отвержению, но переносили его без невротической тревоги, были из рабочего класса. Действительно, выраженная невротическая тревога не проявляется ни у одной из четырех исследованных девушек из рабочего класса — Бесси, Луизы, Сары и Долорес. Отметим, что описанный миссис Шахтель ребенок, который принимал отвержение как реальный факт, тоже принадлежал к рабочему классу. Это ставит нас перед важной проблемой: является ли в нашей культуре противоречие между ожиданиями и реальностью, предрасполагающее к невротической тревоге, особой характеристикой среднего класса и не преобладает ли невротическая тревога именно в среднем классе. Классическая гипотеза об отвержении и предрасположенности к невротической тревоге основывается на клинической и психоаналитической работе с членами преимущественно среднего класса. Она справедлива для пациентов Фрейда и для пациентов почти всех психоаналитиков, занимающихся частной практикой. Похоже, что гипотеза распространяется именно на средний класс, но не на другие классы. Заявление, что в нашей культуре невротическая тревога присуща в основном представителям среднего класса, подтверждается множеством априорных доводов и некоторыми эмпирическими данными. Именно в среднем классе особенно бросается в глаза разрыв между реальностью и ожиданиями как в психологическом, так и в экономическом смысле. Карл Маркс писал, что рабочий класс не ждет ничего, кроме революции. Раньше (в главе 4) было показано, что соревновательная мотивация, непосредственно связанная с тревогой, присуща главным образом среднему классу. В нашем исследовании у женщин из рабочего класса проявлялось гораздо меньше соревновательных амбиций, чем у женщин из среднего класса. Сара выработала интересную позицию, в соответствии с которой ее амбиции не были соревновательными: «Я стараюсь быть не на вершине и не на дне, а где-то в середине». Фашизм — выраженный культурный симптом тревоги — зародился как движение именно в среднем классе. На плечи среднего класса ложится самый тяжелый груз тревоги, поскольку его представители зажаты между высокими стандартами поведения и осознанием того, что ценности, поддерживающие эти стандарты, исчерпали себя. Это, конечно же, интересная и глубокая тема для социологических и психологических исследований. Примечания:4 Ibid., стр. 44. 41 Другие аспекты развития современной культуры, имеющие отношение к теме тревоги (например, экономический и социологический аспекты), рассматриваются в главе 6. Краткая история возникновения и развития тех культурных факторов, которые определяют картину тревоги в современном обществе, приводится в главе 7. Этот материал может служить дополнением к настоящей главе. 42 Ernst Cassirer, An essay on man (New Haven, Conn., 1944), стр. 16. 43 Это положение рассматривается в главе 6. 44 The age of anxiety (New York, 1947), стр. 8. 45 Cassirer, op. cit., стр. 16. 46 The Protestant era (Chicago, 1948), стр. 246. 47 Cassirer, стр. 16. 411 Mardi Horowitz, Stress response syndromes (New York: Jason Aronson, 1976). 412 Я использую этот термин следующим образом. Он согласуется с пониманием Юнга, Адлера, Ранка, Салливана и других психологов, так же как и всех остальных людей. Имеется множество исторических подтверждений тому, что практически все методы исследования бессознательной мотивации, например, тест Роршаха, основаны на работах Фрейда и его последователей. 413 В диагностических терминах этот случай можно определить как выраженный невроз тревожности или шизофрению. При выборе последнего термина нужно четко представлять себе, что имеется в виду не искажение реальности, а присущее тревоге свойство обессиливать человека и лишать его возможности позаботиться о себе в реальном мире. В этом смысле диагноз невроза тревожности и диагноз шизофрении являются взаимозаменяемыми. В любом случае нас больше интересует психологическая динамика, чем диагностические ярлыки. 414 The concept of dread, p. xii. 415 Для тех, кто знаком с проективным тестом Роршаха, мы приводим некоторые технические детали: общее количество ответов 18 — 1 M, 2 FM, 1 k, 6 F, 3 Fc, 3 FC (из которых 2 были F/C), 2 CF; 13 ответов (76 %) W, 5 ответов (28 %) D. 416 Я умалчиваю об отношениях Гарольда с отцом, потому что вынужден выбирать, а отношения с матерью кажутся мне более значимыми для данного случая. Однако это не означает, что проблемы с отцом и его закончившийся самоубийством психоз не оказали влияния на молодого человека. С самого детства для отношений Брауна с отцом были характерны: идентификация с отцом; вера в его силу; последующее чувство унижения отцом и, наконец, сформировавшееся после самоубийства отца убеждение, что «мой отец, которого я считал таким сильным, оказался таким слабым, поэтому как я после этого могу на что-то надеяться?» Таким образом, отношения с отцом обострили его собственную слабость. 417 Тревога обладает способностью мнимого функционирования за счет энергии, которую сама для себя генерирует. «Мнимого» — потому что повод для тревоги должен содержать некий элемент, относящийся к тому конфликту, который является ее причиной. Но дело в том, что мы не можем сразу же разглядеть эту связь. Сокрытие этой связи присуще самой природе тревоги. Пока клиент в терапии не готов расстаться с невротическим элементом тревоги, он не может позволить себе увидеть эту связь. Часто после того, как он разрешает себе обнаружить связь между тревогой и основным конфликтом, наблюдается внезапный и драматичный спад напряжения. 418 Национальный клуб в США, члены которого избираются за достижение высоких успехов в обучении. — Примеч. перев. 419 Медицинское обследование Брауна каждый раз давало негативные результаты. По поводу его головокружения был проведен целый консилиум невропатологов, на котором было сделано заключение, что это был, по всей вероятности, психогенный симптом тревоги. В ситуации тревоги практически всегда наблюдалось головокружение, например, при пугающей необходимости принять на себя ответственность. Очевидно сходство фразы «как будто кто-то ударил его по шее» с тревожным сном, где предполагаемый убийца Брауна также ударил его по спине. Невропатолог мимоходом заметил, что терапия была успешной, раз она предотвратила госпитализацию Брауна. 420 Страх заболеть раком ассоциировался со сновидением, в котором он лежал в больнице, где нянечки заботились о нем. Это наталкивает на одну из функций, или целей, симптома. 421 Данные о втором тесте Роршаха: всего было 50 ответов; процентное соотношение W снизилось до 44 (почти норма); D 40 процентов, а d, Dd и S в сумме составляли 16 процентов. Количество М поднялось до 6, а FC — до 4, что является показателем более частого проявления интратенсивной продуктивности и более высокой экстратенсивной продуктивности. Во втором протоколе было зафиксировано 3 оригинальных ответа, в отличие от банальности и полного отсутствия оригинальности ответов в первом протоколе. 422 Рак имеет символическое значение, и в связи с этим возникает вопрос о важности символов для работы с материалом бессознательного. Отношения Брауна с матерью были формой «психического рака». 423 Мне остается сделать одно грустное дополнение к случаю Брауна. Несколько лет подряд он успешно справлялся со своим состоянием. Затем, когда я находился на другом конце страны, он позвонил мне и сообщил, что впал в такую паническую тревогу, что больше не может ее выносить. Кроме того, он попросил встретить его на железнодорожной станции и помочь устроиться в психиатрическую клинику. Так я и поступил. Затем Браун был переведен в другую клинику и без моего ведома подвергся лоботомии. Несколько лет спустя я пообедал с ним. Он работал продавцом кока-колы и выглядел относительно довольным жизнью. Если бы во время пребывания в клинике в его распоряжении были какие-нибудь лекарства, они могли бы в первый и последний раз помочь ему преодолеть сложный эпизод своей жизни. Можно придумывать бесконечные рекомендации его врачам, но большинство из них явно бессмысленны, потому что ими невозможно воспользоваться. Они исходят из наших сегодняшних знаний и возможностей, в то время как тридцать лет назад такие методы лечения были недоступны. Лично я принципиально против лоботомии, но здесь я не могу ответить на вопрос: а не лучше ли для больного перенести уменьшение своего потенциала наполовину, зато в дальнейшем испытывать некоторое чувство удовлетворения от жизни? Я только хочу прояснить, что ни один из последних фактов не отрицает сказанного ранее. Солдаты Гольдштейна с повреждениями мозга, шизофреники, невротики и все остальные люди реагируют на тревогу определенными, схожими между собой паттернами. Некоторые из них мы рассмотрели на примере Гарольда Брауна. 424 «Ореховый дом» — это вымышленное название, предложенное в целях сохранения конфиденциальности. Все молодые женщины были в возрасте от четырнадцати до двадцати пяти лет. Большинство из них выбрали «Ореховый дом» более или менее добровольно, хотя некоторые были направлены туда социальными агентствами. Ни с кем из них не проводилась терапия, хотя в штате официально состояла психиатр, которая была по долгу службы связана с судебными инстанциями Нью-Йорка, но не очень часто присутствовала на работе. Психологом, о котором иногда упоминается в тексте, был я. Обслуживающий персонал состоял из трех социальных работников, занятых полный рабочий день, и нескольких нянечек. 425 На сегодняшний день внебрачная беременность, конечно же, представляет собой не столь серьезный повод для тревоги, в основном благодаря изменению отношения общества к этой ситуации. Я не хочу сказать, что сам по себе опыт беременности, оторванный от социального контекста, теперь несет в себе меньше тревоги. Более развернутое обсуждение тревоги и других эмоций при аборте см. в книге: Magda Denes, In necessity and sorrow (New York, 1976). 426 Работа Кьеркегора содержит важные и глубокие открытия, справедливые для разных типов людей во многих ситуациях. Тем не менее Кьеркегор дошел до большинства своих догадок путем изучения только одного человека — самого себя. То же самое относится и к ранним теориям сновидений Фрейда, которые были очень широко распространены и доказаны по отношению ко многим разным людям, хотя Фрейд создал эти теории, в основном изучая собственные сновидения. 427 Каждая молодая женщина по прибытии в «Ореховый дом» была проинтервьюирована главным социальным работником, а затем другой социальный работник проводил с ней регулярные собеседования в течение всего периода ее пребывания в приюте (в среднем от трех до четырех месяцев). 428 Тексты опросников приведены в приложении. Одной из целей повторного использования теста Роршаха и введения третьего опросного листа было выявление изменений в фокусе тревоги после рождения ребенка. В связи с этим пункты третьего опросного листа представляют собой перефразированные пункты второго листа. В нескольких случаях было невозможно провести повторное тестирование, потому что некоторые женщины не вернулись в «Ореховый дом» после рождения ребенка. По той же причине большинству из них было невозможно предложить третий опросный лист. Следовательно, мы располагаем весьма ограниченными данными об изменениях фокуса тревоги после родов. В тех случаях, когда после родов тесты были все же предложены, результаты в основном использовались для демонстрации сдвигов в установках и в уровне тревожности данной личности. 429 Оценки проставлялись по шкале от 1 до 5, где единица означала оптимум, или самый низкий уровень тревожности. «Глубина» описывает то, насколько глубокой и пронизывающей является тревога; это ее интенсивность в качественном смысле. «Широта» описывает тревогу с точки зрения ее обобщенности или ограниченности определенными областями; это интенсивность в смысле количества симптомов. «Защита» определяет степень эффективности попыток субъекта контролировать свою тревогу. 430 Пункты опросника независимо классифицировались тремя разными людьми: доктором П.М. Саймондсом, социальным работником «Орехового дома» и мной. 431 Оценки параметров тревоги по тесту Роршаха приводятся отдельно при обсуждении результатов тестирования по каждому случаю, и там же приводится общая оценка тревоги каждого индивидуума по сравнению с остальными. В последнем случае оценки глубины и широты тревоги сводятся воедино, а оценка по защите опускается, поскольку она представляет собой нечто отличное от количества симптомов и типа тревожности. Хотя оценки по тесту Роршаха часто совпадают с моими собственными общими оценками тревоги у женщин, их не стоит смешивать между собой. 432 См. G. Allport, The use of personal documents in psychological science (New York, 1942). 433 Общее количество ответов 46: 10 M, 7 FM, 1 m, 2 k, 1 K (с тремя дополнениями), 4 FK (с четырьмя дополнениями), 8 F, 4 Fc, 4 FC, 5 CF; популярных ответов 7, оригинальных 15; W% 60, D% 34; оценка умственных способностей на основе теста Роршаха: потенциал 130 (или даже выше), эффективность 120. Эта оценка умственных способностей соответствует полученным данным о результатах двух тестов на интеллект, которые она проходила в школе и колледже. 434 Эти методы защиты часто эффективны в том случае, когда личность нуждается в отрицании самого факта защиты. Как видно из предыдущих глав, это испытанные и реально действующие методы (например, в армии). 435 В действительности родовые муки Хелен оказались не тем, чего она боялась. В разговоре с психологом после родов она заметила: «Если ваша жена скажет вам, что женщины во время родов страдают, просто ответьте ей, что это не так». Конечно же, невозможно делать вывод о невротической природе ее страха только потому, что он оказался нереалистичным. Но, несмотря на это, облегчение, наступившее у Хелен после родов, больше похоже на чувство «так-чего-же-я-боялся?», которое испытывают люди после исчезновения невротического страха, чем на облегчение после спасения от реальной угрозы: «Это было опасно, но мне повезло». 436 Хотя во втором тесте Роршаха проявляется меньше тревожности, чем в первом, значительная доля тревоги все еще налицо. Я уверен, что Хелен испытывает либо умеренную, либо умеренно высокую степень тревоги во всех ситуациях, обостряющих ее субъективные конфликты. 437 Наверное, нет необходимости специально заострять внимание на том, что мы не претендуем на истинно научное и рациональное отношение к тревоге и чувству вины. Скорее, мы говорим не о рациональном отношении, а об отношении рационализации и об интеллектуализации как о защитном механизме. 438 Общее количество ответов 41: 6 M, 3 FM, 1 K, 22 F, 7 Fc, 1 C’, 1 CF; популярных ответов 5; оригинальных 8; W% 10, D% 41, d% 24Ѕ, Dd% 24Ѕ; (Н плюс А):(Hd плюс А) равно 12:13.; процент ответов на цветные карты 29; оценка умственных способностей по тесту Роршаха: эффективность 115, потенциал 125. 439 Это было видно не только по ее отношениям с матерью, но и по ее теперешней ситуации: она сказала, что теперь при каждом беспокойстве выбрасывает тревогу из головы, предпочитая размышлять о своем женихе и о «нашем прекрасном будущем». 440 Можно привести сравнение со случаем Филлис, которая, ценой обеднения своей личности, действительно смогла спастись от тревоги, избегая эмоциональной вовлеченности в других людей. 441 Общее количество ответов 13: 6 M, 2 FM (5 добавочных m), 2 F, 1 Fc, 2 CF; 3 популярных ответа, 7 оригинальных; W% 62, D% 30; Dd% 8. Оценка умственных способностей: потенциал 120, эффективность 110. 442 Общее число ответов 22: 1 K, 11 F, 4 Fc, 1 c, 3 FC, 2 CF; W% 45, D% 55; 2 популярных ответа, 4 оригинальных. Оценка интеллектуальных способностей по тесту Роршаха: потенциал 100, эффективность 100. 443 Уровень тревожности в опросном листе по детскому возрасту частично является следствием сверхстарательности Луизы и ее сильного желания угодить психологу, в исследовании которого она стремилась участвовать. (См. упоминание о том, что она была почтительна и угодлива с людьми, которых считала своими «покровителями»). Опросный лист по «тревоге на настоящее время», заполненный в присутствии социального работника, представляется более верным показателем уровня ее тревоги. 444 Общее количество ответов 20: 1 M, 5 FM, 3 FK, 7 F, 2 Fc, 2 FC, 4 популярных ответа, 2 оригинальных; W% 50, D% 40; S% 10; процент ответов на три последние карты 25. Оценка интеллектуальных способностей: потенциал 115, эффективность 100. (Это согласуется с IQ, равным 101, из отчета о психометрическом обследовании Бесси, проведенном в Доме ребенка во время ее пребывания в «Ореховом доме»). 445 В подобных случаях я еще несколько раз отмечу, что количество заполненных пунктов опросника частично может быть следствием конформных, угодливых тенденций, проявляющихся у девушки при опросе (т. е. на нее влияет уверенность в том, что, заполнив много пунктов, она порадует меня, психолога). Тот факт, что Бесси не заполняла множество пунктов, подтверждает эту гипотезу, поскольку она не принадлежала к конформному типу, а была самостоятельной и не поддавалась заметному влиянию желания угождать другим. 446 Оказалось, что ей необязательно являться в суд на разбирательство дела ее отца; со второй тревожащей ситуацией она успешно справилась, когда с ней пошли социальный работник и хозяйка приюта. 447 Ответ на карточку I: W-F-A-P; на карточку II: W-M-H-P; на карточку VIII: D?W-FM-A-P. На фазе тестирования границ она показала, что может использовать цвет и без труда описывать детали пятен. Результаты этой фазы тестирования согласуются с вышеприведенной гипотезой, что ее неблагополучие было не психотического порядка и объяснялось не органическими нарушениями, а скорее сильным психологическим конфликтом. У Долорес были некоторые проблемы с английским языком, но это не имело отношения к ее блокировке при тестировании, поскольку ответы, которые она дала, так же как и разговоры с экспериментатором, были абсолютно вразумительными. 448 Было бы желательно провести тест Роршаха сразу после «исповеди», но это оказалось невозможным. Тем не менее мы полагаем, что радикальные изменения, последовавшие за ее рассказом об истинных причинах беременности, отчетливо проявились в поведении. 449 Общее число ответов 15: 2 M, 4 FM, 8 F, 1 FC; A% 60; 4 популярных ответа, оригинальных нет; W% 33, D% 60, d% 7; общее время 14‘, в отличие от 35‘ при первом тестировании. По первому тестированию нельзя было оценить умственные способности; по данному они таковы: потенциал 110, эффективность от 90 до 100. (Ее тесты на интеллект в школах Нью-Йорка в пятом классе показывают IQ, равный 80, но этот результат можно считать ненадежным по причине ее языковых затруднений). 450 Важно, что в первых двух опросных листах, заполненных в период парализующего конфликта, число ответов очень высокое (отмечено много пунктов), в то время как в тот же самый период Долорес отказывалась давать ответы на тест Роршаха. Вероятное объяснение состоит в том, что человек знает, что именно он сообщает в опросниках; при этом нет опасности, что он случайно раскроет свою тайну. Значит, опросник не представлял для Долорес никакой угрозы. 451 В заключительной главе для сравнения Долорес с другими девушками берется умеренно низкая оценка тревожности, основанная на втором тесте Роршаха и на ее поведении после избавления от конфликта. 452 Общее число ответов 39: 2 M, 1 FM, 2 K, 18 F, 13 Fc, 1 c, 1 FC, 1 CF; общий процент в области F 80; W% 15, D% 59, d% 5, Dd% 21; (Н плюс А):(Hd плюс Ad) равно 9:14; популярных ответов 5, оригинальных 3. Оценка интеллектуальных способностей: эффективность 110, потенциал 115. 453 У буддистских лам это вращающееся на оси деревянное или металлическое колесо цилиндрической формы, на котором написаны тексты молитв. — Примеч. перев. 454 Когда я писал эти слова, мне хотелось взорваться. 455 Общее количество ответов 39: 2 M, 4 FM, 1 k, 4 K, 21 F, 3 Fc, 1 c, 1 CF; 65 процентов в области F; популярных ответов 6, оригинальных 7; общее количество процентов ответов на карточки VIII, IX и X 51; только один ответ Н во всем протоколе; ригидная последовательность; W% 16, D% 68, d% 8, dd% 8. Оценка интеллектуальных способностей: эффективность 110, потенциал 125. 456 Хотя важным элементом в тесте Шарлотты были сознательно искаженные ответы, мы приводим количественные результаты, потому что в других случаях придерживались именно этой формы представления данных. Общее число ответов 36: 9 M, 4 FM, 4 FK, 9 F, 3 Fc, 4 FC, 3 CF; среднее время на каждый ответ 1‘45»; 8 популярных ответов, 7 оригинальных; W% 44, D% 42, d% 3, Dd% 11. 457 Здесь мы, конечно же, говорим только о психогенных формах психоза, т. е. о тех, которые происходят скорее от субъективного психологического конфликта, чем от органического нарушения. Общее утверждение о том, что такие психотические состояния характеризуются отсутствием тревоги, не противоречит факту, что некоторые формы паранойи сопровождаются тревогой; последняя — это иная конфигурация в рамках общего паттерна. 458 Общее количество ответов 22: 1 M, 6 FM, 1 K, 3 FK, 5 F, 1 Fc, 1 FC, 4 CF; 6 популярных ответов, 4 оригинальных; W% 50, D% 50. Оценка интеллектуальных способностей: потенциал 120, эффективность 110. 459 Тот факт, что W% в тесте Роршаха был невысок, подтверждает, что ее амбиции не носили агрессивного соревновательного характера. 460 Общее число ответов 40: 1 M, 6 FM, 1 FK, 14 F, 10 Fc, 2 FC‘, 6 FC; W% 20, D% 70, Dd% 5, S% 5; популярных ответов 5, оригинальных 15. Оценка умственных способностей: потенциал 110, эффективность 110. 461 Общее число ответов 12: 1 M, 5 F, 2 Fc, 2 FC, 1 CF, 1 C; 4 популярных ответа, оригинальных нет; W% 67, D% 33. Оценка умственных способностей: потенциал 100, эффективность 100 (или ниже). 462 Я считаю, что интроецированные требования у Ады и авторитарные правила и стандарты у ее матери — это во многом одно и то же. 463 Общее количество ответов 23: 3 M, 6 FM, 5 F, 6 Fc; A% 70; 6 популярных ответов, 6 оригинальных; W% 39, D% 61; среднее время реакции 2‘,17»; процент ответов на последние три карты 48. Интеллектуальные способности: потенциал 125, эффективность 110. 464 Случаи Брауна, Хелен, Нэнси, Ады, Агнес, Эстер, Фрэнсис, Ирен и особенно Долорес. 465 Хотя случай Брауна не относится к исследованию незамужних матерей, важно отметить, что он проявлял ту же неспособность сознательно рассматривать мать как тирана, которым та несомненно являлась, и интерпретировал ее деспотическое поведение как проявление «любви». Содержащийся здесь конфликт выступает достаточно ясно, поскольку сновидения Брауна показали, что на более глубоком уровне он воспринимал мать как доминирующую и деспотичную женщину. 466 Это позволяет признать наличие каузальных связей между родительским отвержением, которое имеет место преимущественно в раннем возрасте, и предрасположенностью к невротической тревоге в данный момент. Априорное обоснование данной причинной связи дается в предыдущих главах (наряду с клиническими данными, подтверждающими это заявление) при обсуждении позиции Салливана, Хорни, Фромма, да и, вообще говоря, любого психоаналитического автора со времен Фрейда. Все приведенные рассуждения предполагают континуум индивидуальных структур характера. 467 Любопытно, что эта догадка, сделанная в 1950 г., предвосхищает концепцию двойных связей, предложенную Грегори Бейтсоном позже, в середине 1950-х. С тех пор я многократно обсуждал это с Бейтсоном. Для сравнения он привел ситуацию с Дарвином и Уоллесом: Дарвин (Бейтсон) увидел все возможности широкого применения новой идеи, а Уоллес (я) не увидел. Это действительно верно: в то время я не осознавал всей универсальности концепции. Также бесспорно, что в определенное время некоторые конструктивные идеи «витают в воздухе» как выражение «коллективного бессознательного» эпохи. Множество разных мыслителей уловили их более или менее одновременно. Я думаю, что «гений» — это тот, кто понимает, какая важная рыба попалась ему на крючок. 468 С. Кардинер считает, что при психологическом созревании западного человека основа для развития невротического конфликта закладывается, помимо всего прочего, непоследовательным воспитанием детей (глава 7). 469 Если отвержение всеобъемлющее — то есть если в первые месяцы жизни ребенок не переживает связь с родителями или заменяющими их лицами, пусть даже враждебно настроенными, — в результате мы получаем психопатическую личность. Для этого типа также характерно отсутствие невротической тревоги. Читатель может вспомнить, что в случаях Луизы и Бесси мы исключили такую возможность. Прекрасное описание этой проблемы можно найти в докладе Лоретты Бендер «Тревога у детей с нарушениями», который был сделан на симпозиуме Американской психопатологической ассоциации, посвященном тревоге (4 июня 1949 г.) и опубликован среди прочих материалов симпозиума, а также в книге Paul Hoch and Joseph Zubin, Anxiety (Нью-Йорк, 1950). 470 Эти находки описаны в обзоре неопубликованной работы Anna Hartoch Schachtel, Some conditions of love in childhood, 1943. 471 Donald W. MacKinnon, A topical analysis of anxiety, Character & Pers., 1944, 12:3, 163—76. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
