|
||||
|
Лекция 6. РЕЛИГИИ СОВРЕМЕННЫХ НЕПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ: БОГ И ДУХИ ЗАГАДКИ НЕПИСЬМЕННЫХ КУЛЬТУР МАТЬ-ЗЕМЛЯ МИР ДУХОВ TOTEM МИРОВОЕ ДРЕВО И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕХОД Лекция 7. РЕЛИГИИ СОВРЕМЕННЫХ НЕПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР МНОГОСОСТАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК- БОГ ИЛИ ЗВЕРЬ? ЗЕРКАЛО ВМЕСТО ИНОБЫТИЯ НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ В РЕЛИГИЯХ НЕПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ КАННИБАЛИЗМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ «НЕПИСЬМЕННЫЕ НАРОДЫ» – ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТАГНАЦИИ Лекция 8. ШАМАНИЗМ Вступление ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СМЫСЛ ПОНЯТИЯ ШАМАНИЗМ КТО ТАКОЙ – шаман? КТО И КАК СТАНОВИТСЯ ШАМАНОМ ШАМАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ШАМАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ ЗАГАДКА тудинства ЧТО ТАКОЕ КАМЛАНИЕ? СОБИРАНИЕ ДУХОВ МАГИЧЕСКИЙ ЖАР И ШАМАНСКИЙ ПОЛЕТ ИСЦЕЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЕ СПАСЕННОЙ ДУШИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ И РОСПУСК ДУХОВ ШАМАНИЗМ КАК культурно-религиозное ЯВЛЕНИЕ Часть II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВНЕИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА Лекция 6. РЕЛИГИИ СОВРЕМЕННЫХ НЕПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ: БОГ И ДУХИ ЗАГАДКИ НЕПИСЬМЕННЫХ КУЛЬТУР Одной из загадок современности является существование так называемых «примитивных» народов, живущих вне письменности, государственности, сложной и многообразной хозяйственной деятельности. Порой нам кажется, что ответить на этот вопрос, решить загадку несложно – отрезанные от основных цивилизаций или задавленные тяжелым климатом они не смогли «развиться» и законсервировались на уровне первобытного, догосударственного бытия. Но такое простое решение совершенно неверно. Во-первых, возникает вопрос, почему отрезанные чуть ли не сотню тысяч лет от Азии австралийские аборигены так и не создали собственную цивилизацию. Почему отрезанность континента помешала развитию населяющих его людей? Во-вторых, существуют неразвитые народы, которые тысячи лет живут буквально бок о бок с народами культурными в Северной Африке, Индии, Китае, Индокитае, в нашей Сибири. Ульчи, орочи, нанайцы имели тесные связи с китайцами; кхаси, гаро, нага обитают буквально в двух часах пешего пути от городов ассамцев и бенгальцев, народов, имеющих многотысячелетнюю культурную историю. Что касается природных условий, то «дикие» племена живут не только у полярных прибрежий, но и в странах умеренного климата, и в субтропиках, и на экваторе. Они обитают, подобно государственным народам «по всему лицу земли». И климат, ни слишком суровый, ни слишком мягкий, не может стать объяснением их отсталости. Наконец, последнее, и, может быть, самое существенное. Строй жизни современных «диких» племен вовсе не подобен строю жизни народов доисторических. Мы уже говорили о том, что одно дело впервые освоить огонь, лук со стрелами или одомашнить растения и животных, а другое – не принимать от более развитых культур их достижений и довольствоваться самым примитивным существованием, пользуясь освоенными десятки, а то и сотни тысяч лет назад приемами жизни. Для того чтобы из поколения в поколение отказываться от более совершенных форм социального и хозяйственного устроения, надо иметь причины не менее серьезные, чем побуждающие другие народы постоянным усилием улучшать условия своего бытия. В просторечии, говоря об этих народах, мы употребляем понятия «примитивные», «дикие», «первобытные». Что касается последнего термина, то о его неверности я уже говорил – быт этих народов скорее всего очень отличен от первоначального строя жизни человеческих сообществ. Они, наши современники – и, безусловно, не «первобытны». Не являются эти народы и «примитивными» или «дикими». Да, их хозяйственная жизнь весьма элементарна, но этого нельзя сказать об общественном и духовном устроении. «Австралийские аборигены, – писал А. П. Элкин, – это кочующие собиратели пищи, но их мировоззрение и ритуальная организация жизни в некоторых аспектах не ниже и не менее сложна, чем наша собственная» [164]. Французский ученый Леви-Брюль [165] в книге «Примитивное сознание» пытался доказать, что ум «дикаря» пребывает в «дологическом состоянии». Однако он сам к концу жизни отказался от этой точки зрения. Огромный, собранный антропологами «в поле» материал, безусловно, свидетельствовал, что представители «слаборазвитых» племен и способны, и вынуждаются самой жизнью выстраивать сложные логические цепи, по сути, ничем неотличимые от логических цепей в сознании человека «цивилизованного». Один из крупнейших философов и психологов XX века Карл Густав Юнг писал в связи с этим: «На самом деле первобытный человек не более логичен или аналогичен, чем мы. Просто он думает и живет, исходя из совсем других представлений по сравнению с нами» [166]. Сейчас ученые предпочитают оценочным наименованиям «дикие», «примитивные» народы, термины нейтральные и более верные – именуя такие народы неписьменными, неисторическими. Дело в том, что одной из характерных особенностей племен, не создавших цивилизации, является полное отсутствие письменности. Во многих неевропейских сообществах государственных и культурных письмо и чтение оставались привилегией узкого круга лиц из высших сословий. Но как таковая письменность существовала и знания передавались из поколения в поколение через посредство написанного текста. Однако среди народов не создавших цивилизации, навык письма отсутствовал. И в прошлом и особенно в течение последнего одного-двух столетий они временами заимствуют навык письменности у соседствующих с ними культурных народов, но поскольку письменность так и не превратилась в необходимую часть их культурной жизни, такие сообщества возможно и в настоящее время называть «неписьменными». А так как история, в узком смысле слова, охватывает лишь общества, имеющие письменные памятники, то, говоря о неписьменных народах, можно употреблять понятие «внеисторические», точно так же как к дописьменным культурам неолита и палеолита мы используем термин «доисторические». Внеисторические культуры, однако, совсем не подобны доисторическим. Между ними протекли тысячелетия совместного существования исторических и внеисторических цивилизаций. Кроме того, даже внутренняя жизнь неписьменных обществ на протяжении сотен веков не могла не менять человека, способствуя или его совершенствованию, или деградации. Все религии, как и все человеческое, подвижны. Наш глаз и наше сердце постоянно меняются из-за множества превходящих обстоятельств. Тонкие, но иногда очень важные перемены в духовной сфере не сразу и не вполне проявляются в сфере материальной. Поскольку и от доисторических и от внеисторических народов до нас не дошли застывшие в тексте состояния души, то для выявления сходства и различий их нам придется довольствоваться археологическим и этнографическим материалом, дающим, увы, очень грубый, приблизительный и частичный отпечаток духовного состояния общества. Но даже и этот несовершенный отпечаток коечто поможет нам понять. В «Постижении истории» Арнольд Тойнби писал о неписьменных народах: «Если все существующие ныне примитивные общества пребывают в статическом состоянии, это не доказательство того, что они изначально и всегда находились в таком состоянии ‹…› Разве нет вероятности, что все существующие ныне примитивные общества – это сухие ветви когда-то живого древа и что их застывшее состояние – эпилог бурной когда-то истории? Ведь не всегда же они были неподвижными. Фиксируя отблески истории примитивных обществ, мы понимаем, что они были столь же динамичными и значительными, как и более поздние цивилизации» [167]. Но почему «иссохли» эти ветви на древе цивилизации? Самому британскому историку так и не удалось однозначно ответить на этот важнейший для человечества вопрос на страницах своего многотомного труда. Он признавался, что вспышка цивилизации всегда обусловлена таким множеством сошедшихся во временном и пространственном фокусе причин, что требует согласиться на присутствие тайны. А если взглянуть с другой стороны, то приходят на ум слова знатока религий неписьменных народов Э. Дж. Парриндера: «Нет сомнения, что выдающиеся мыслители, священнослужители, пророки и певцы существовали и в Африке, Америке, Австралии (до прихода цивилизации. – А. З.). Но они ушли, не оставив, кажется, и следа от своих высоких прозрений в пустынях (где обитают неписьменные народы)» [168]. Но почему где-то гений дал пышные всходы высокой цивилизации, а где-то иссушенная почва так и не смогла, увлажнившись, прорастить упавшее в нее семя духовного прозрения? Понять это можно только сравнив верования современных неписьменных народов с религиозными представлениями доисторических людей. Именно в той разнице, том «зазоре» между древнейшими и современными верованиями народов, сходных по объективному уровню общественного и хозяйственного развития, кроется, как мне кажется, ответ на сомнения А. Тойнби и Э. Дж. Парриндера в причинах «прорыва» в цивилизацию одних сообществ и «отсыхания» других. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГЕ-ТВОРЦЕ У НЕПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ «Широкая публика возможно и не ведает, что большая часть написанного в прошлом, часто с горячей убежденностью, и то, что до сих пор учат в наших школах и университетах об анимизме, тотемизме, магии и тому подобном, в действительности неверно или, по крайней мере, сомнительно», – указывал знаток неписьменных народов и историк религиоведения Э. Э. Эванс-Притчард [169]. Он добавлял, что, как правило, теоретики «примитивных верований» никогда не выезжали из Европы и нередко, подобно сэру Джеймсу Фрезеру, испытывали отвращение от одной мысли о возможности встречи лицом к лицу с объектом своих исследований. «Большинство ученых Девятнадцатого века, заложивших основы антропологии, были исключительно кабинетными мыслителями. Если бы они провели хоть несколько недель среди людей, о которых писали, их методики и выводы претерпели бы немалые изменения», – отмечал Э. Дж. Парриндер [170]. Подобно тому, как многие ученые ХIX столетия надеялись найти доказательства преходящего характера религии в открытии дорелигиозного доисторического человечества, точно так же исследователи современных первобытных народов были озабочены поисками племен, где бы отсутствовало какое-либо понятие о чем-либо «религиозном». Временами казалось, что такое племя наконец-то обнаружено, но всякий раз более тщательный анализ опровергал слишком поспешные выводы о первобытном атеизме. Муат утверждал, что религии нет у андаманцев, но А. Рэдклифф-Броун подробно описал ее в 1922 году. Верования андаманцев оказались весьма сложными и исторически неоднородными. Вплоть до 1940-х годов исследователи небольшого племени в юго-восточной части внутренней Суматры – оранг-кубу подчеркивали, что «у кубу нет ни веры в духов, ни каких-либо суеверных представлений об умерших (которых они просто покидают на месте смерти и уходят), нет ни колдунов, ни знахарей» [171]. В. Фольц написал специальную книгу о своем путешествии к куба, где привел беседы, в которых пытался спровоцировать «дикарей» раскрыть ему свои религиозные верования. Но все было напрасно. Дикари куба ни в чем не проявляли своей веры в сверхъестественное [172]. А между тем еще за два десятилетия до Фольца Б. Хаген описывал у кубу колдунов, медиумов, именуемых малимами, постоянно общающихся с миром духов в трансе, лекарей, узнающих в мире духов причины болезни и пути ее исцеления [173]. Подобных примеров можно привести очень много. И надо сказать с полной уверенностью, что современной этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной традиции, дорелигиозное. Причины ошибок исследователей, изучавших на месте верования неписьменных народов и приходивших к выводу об их нерелигиозности, имеют своей причиной ту тайну, которой многие, далеко не только «слаборазвитые» сообщества, окружают область отношений с духовными силами. В современном обществе сняты многие покровы, и те предметы, о которых еще совсем недавно нельзя было говорить открыто – например область продолжения рода, сексуальных отношений – теперь обсуждаются вполне откровенно. Это считается знаком «современности». Раньше человек был существом более многоплановым. Он знал, о чем можно говорить со всяким встречным, а что надо хранить как величайшую тайну. Чем важней для человека была сфера, тем меньше лиц посвящались в нее. Человек ощущал себя живущим в мире высокого духовного напряжения. Он верил в мощь слова и в то, что через слово духовные силы могут ворваться в наш мир. Поэтому он был весьма осторожен в обращении со словом. Рассказ о какой-либо духовной сущности, тем более называние ее являлось одновременно и призыванием, инвокацией. А призванная без должного почтения, открытая посторонним, «непосвященным», духовная сила могла повредить, а то и уничтожить самого незадачливого рассказчика. И нам сердце часто само подсказывает, что при всей откровенности лучше не говорить о своих чувствах, о любви, например, с приятелями, что есть вещи, которые доверить можно только единственному, ближайшему другу, а есть и такое, о чем лучше не говорить и с ним. И не потому, что это нечто постыдное. Нет, просто и в нашем сердце существует инстинктивное чувство тайны и святыни, которые уходят, рассыпаются при непочтительном к ним отношении. В традициях, где люди живут напряженной духовной жизнью, чувство это развито несравнимо сильнее. «Секретность во всем, имеющем отношение к священному без сомнения является одной из поразительнейших, а для европейского исследователя – еще и одной из самых огорчительных особенностей религии аборигенов. По пальцам можно пересчитать тех европейских ученых, которым когда-либо была оказана честь посвящения в высшие таинства аборигенной религии в любом из районов Австралии», – писал знаток верований коренных австралийцев, австралийский религиовед Т. Дж. Г. Стрехлоу [174]. Даже среди самих аборигенов существует сложная иерархия посвящений в религиозные тайны, и далеко не все достигают ее высших степеней. «Священные предания были известны аборигенным женщинам только в самой общей форме, – указывает тот же Т. Дж. Г. Стрехлоу [175], и объясняет далее – только взрослые, прошедшив посвящение мужчины могут получать полные объяснения в вопросах священного. Некоторые из существеннейших частей священных преданий были известны лишь нескольким старцам в каждом тотемном клане. Женщины, очень возможно, хранили некоторые священные повести как часть их собственного тайного знания». И это не особенность только Австралии. Повсюду представители неписьменных народов говорят о содержательной, существенной части их верований скупо и неохотно. Они предпочитают сообщить назойливому «бледнолицему» какие-нибудь сказки, в которые сами не особенно верят, говорить о внешней стороне обрядов, но избегать всего, что касается духовной сути. Лучше прикинуться ничего не понимающим в священных знаниях простаком, нежели разгласить то, что под страшными клятвами тебе поведали во время посвящений вожди и старцы, что имеет существеннейшее значение для твоей жизни и жизни твоих близких. Когда мы говорим о верованиях неписьменных народов, всегда следует помнить о неролноте наших знаний, поскольку священных писаний у этих народов не имеется, а священные предания тщательно скрываются от не посвященных. Наиболее тайным является все, связанное с Богом-Творцом. Но знают о Его существовании все или почти все неписьменные народности, знают, что это не просто бог, покровитель племени, не племенной, а именно вселенский Бог. Под одним и тем же именем такого Бога часто чтут многие народы, относящиеся к различным языковым семьям. Например, народы Восточной Африки именуют Бога Мулунгу. Под этим именем Он присутствует более чем в тридцати миссионерских переводах Библии. Мулунгу – создатель и правитель мира, Он всемогущ и вездесущ. Голос Его слышится в громе, а мощь познается в молнии. Он справедлив, поощряет добро и наказывает зло. Этимология имени Мулунгу неизвестна. В западной части Африки, от Берега Слоновой Кости до Ботсваны, у многих бантуязычных народов творец мира и всемогущий небожитель именуется Ньямбе или Ньяме. Также именуется сила, присущая каждому существу и даже каждой вещи. Ньямбе – Ньяма встречается во многих переводах Библии. Иначе передать понятие о Боге-Творце для многих западноафриканских народов оказывается затруднительным. У догонов. Верхней Вольты творец мира и земли именуется Амма. От Его совокупления с созданной Им землей возникли смертные люди. На языке Йоруба высший Бог – это Ол-орун, Владыка Небесный. У многих народов от северных границ пустыни Калахари через Конго до Танганьики творец всяческих именуется Леза. Он обитает на небесах, к Нему обращаются с молениями о даровании дождя. Он являет себя в громе и молнии. Леза зовется «непостижимым» и считается «матерью зверей». Живущие на побережьях Ледовитого океана по обе стороны Уральских гор ненцы (самоеды) называют Бога – творца мира Нум. Старый нанайский шаман С. П. Сайгор [176] рассказывал в 1972 году этнологу Анне Смоляк [177]: «Главные боги – Лаои, Саньси, Нянгня – наверху. Но живут ли они на небе, на звезде, на туче – не знаю. Раньше говорили, был Найму Эндур, он сделал всех людей, зверей и букашек. Он запретил людям трогать тигра. Сейчас его называют Саньси. И он, и Лаои и солнце – все боги наверху живут». У массимов северо-восточной части острова Новая Гвинея существуют предания о великом змее Гарубои, «сделавшего нас, небо и землю». Он разделил людей на экзогамные кланы, установил законы супружества, раскрыл людям имена всех вещей [178]. Исследователь австралийских аборигенов Эндрю Лэнг указывал, что у племен арунта есть вера в Отца всяческих, великого небожителя. К нему восходят души умерших. Его почитание окутано тайной, скрыто от детей, женщин, белых людей. За разглашение тайн, с ним связаных, полагается смертная казнь. Его называют Ультхаана – творец. У него есть сын, посредник между мирами небесным и земным – Тванйирика. О нем можно говорить с непосвященными [179]. Если ученому удается преодолеть покров тайны, окутывающий личность и имя Бога-Творца, то он может обнаружить Его в религиозных представлениях практически любого племени. Как вы помните, в ХIХ и даже в самом начале XX века большинство ученых отрицали возможность веры в единого Бога-Творца у «дикарей». Они считались для этого «высокого знания» слишком примитивными. На грани веков доминировала точка зрения Э. Б. Тэйлора, не утратившая сторонников и по сей день, в соответствии с которой первоначальной религией является анимизм, вера в духов, постепенно развивающаяся до политеизма и в качестве высшей религиозной формы достигающая состояния единобожия, монотеизма. Первым среди религиоведов и этнологов это убеждение поколебал Эндрю Лэнг, издавший в 1898 году ставшую классической книгу «Становление религии» [180]. Это, построенное на большом этнографическом материале, собранном непосредственно автором, исследование, побудило другого ученого, немецкого католического священника, выдающегося этнолога и лингвиста Вильгельма Шмидта создать двенадцатитомную монографию «Истоки представлений о Боге» [181], в которой на необъятном материале доказывалось, что первоначальной верой человечества являлся монотеизм, лишь со временем более или менее заросший ряской политеистических и анимистических предрассудков. Вильгельм Шмидт родился 16 февраля 1868 года в Хёрде (ныне Дортмунд-Хёрд), в Германии. Сын фабричного рабочего. В 1883 году поступил в миссионерскую школу в Стейле (Нидерланды), филиалом которой было Общество Verbi Divini (слова Божий), основанное в 1875 году. Здесь он завершает свое философское и богословское образование и в 1892 году рукополагается в пресвитера. В 1893-1895 годах изучает в Берлинском университете семитские языки. В 1895 году назначается профессором богословия в семинарию св. Гавриила в Мёдлинге (Австрия). Миссионерские задачи семинарии заставляют В. Шмидта заняться сравнительным языкознанием и религиоведением. В 1906 году он основывает международный журнал по этнологии и языкознанию «Антропос», существующий и по сей день. В 1931 году он создает Антропологический институт в Мёдлинге, директором которого остается до 1950 года (ныне институт располагается в Санкт Августине близ Бонна). С1921 года Шмидт профессор Венского университета, с 1927 года директор Понтификального этнологического музея в Риме. С момента захвата Австрии нацистской Германией Шмидт перебирается в университет Фрибурга (Швейцария), где занимает профессорскую кафедру вплоть до своей кончины в 1954 году. Шмидту принадлежат выдающиеся открытия в области языкознания народов Юго-Восточной Азии и Океании, фундаментальные работы религиоведческого и богословского характера. В области религиоведения главным достижением Вильгельма Шмидта является аргументированное выдвижение концепции «первоначального монотеизма» (Urmonotheismus), оспариваемой многими учеными, но, в существе своем, так и не опровергнутой доныне [182]. Не будучи в состоянии отвергать в принципе наличие монотеистических верований в среде неписьменных народов, приверженцы анималистической теории Тэйлора выдвинули гипотезу о «заимствованном характере» такого монотеизма. Сэр Артур Эллис назвал Бога-Творца внеисторических религий the loan god, утверждая, что монотеистические мотивы первобытные народы восприняли сравнительно недавно от христианских и мусульманских купцов и миссионеров. Однако он сам отказался от этой гипотезы под влиянием все возраставшего этнографического материала, свидетельствовавшего об оригинальном характере «первобытного монотеизма». Окончательно концепция «заимствованного Бога» была отвергнута благодаря исследованию Р. С. Рэттрэя Ашанти [183], в котором оригинальность монотеизма этого западноафриканского народа была продемонстрирована с полнейшей убедительностью. Против концепции Вильгельма Шмидта выступил один из крупнейших религиоведов начала XX века архиепископ Швеции Нафан Содерблом. В идее «первичного монотеизма» Шмидта Содерблом не мог принять тезис о «первичном откровении», то есть о том знании о Себе, которое Сам Творец открыл людям «в начале». По убеждению шведского епископа, откровение присутствовало только в библейских религиях, а никак не в верованиях «первобытных дикарей». Но Содерблом не мог отрицать ставшего ко второму десятилетию очевидным факта, что все практически неписьменные народы знают всемогущего и предвечного Творца мира, пребывающего «на небесах». Он объяснил эти идеи не откровением, а «философской рефлексией» «первобытного мыслителя». Человеку надо было объяснить себе появление бытия и он придумал запредельного творца. Истинный же Творец явил себя лишь в пророческом откровении. Аргументировал свою модель Содерблом одним, действительно очень интересным и важным фактом – в отличие от религии Ветхого Завета неписьменные народы хотя и знают Бога-Творца, но выводят Его за пределы своей религиозной жизни, не почитают и не молятся Ему [184]. Итальянский ученый, Рафаэль Петтаццони, предложил иначе взглянуть на сущность Высшего Бога в неисторических религиях. Он обратил внимание, что при пассивности и вынесенности за пределы культа Бога-Творца, в мифах первобытных народов нередко присутствует активный бог грозы, молнии, дождя или бури. По мнению Петгаццони, первоначально два эти божества существуют раздельно, но впоследствии, уже в историческую эпоху, они сливаются в единый образ всемогущего Творца и нравственного Судии мира и людей. Споря с Содербломом, Петтаццони объяснял на многих фактах, что и пассивный Бог-Творец рассматривается неписьменными народами как хранитель и защитник нравственного порядка космоса и социума. Если Шмидт считал миф поздним затемнением первоначального откровения Творца в несовершенном человеческом сознании, то Петгаццони видел в мифе вполне гармоничную структуру, отвечающую первобытному представлению о Творце и творении [185]. Наконец, Мирча Элиаде в работе «Опыты сравнительного религиеведения», а позднее, в знаменитой «Истории религиозных воззрений» [186] попытался на конкретных примерах рассмотреть сотношение божественного откровения, философской рефлексии, заимствования в представлениях о высшем существе у неписьменных народов. Он предположил, что Божественный Творец мира постепенно вытесняется в массовом религиозном сознании неписьменных народов верованиями в обожествленные силы природы, или, точнее, в духов, сотворенных Богом и являющихся энергиями природных феноменов, в том числе и «метеорологических» – типа грозы, бури, дождя [187]. Итак, сам факт знания неписьменными народами Бога-Творца ныне не вызывает сомнений. Это личное существо, обладающее, как правило, этимологически значимым именем. Его местопребыванием всегда называется небо, небесные сферы или нечто «превыше небес», но никогда – земля или подземный мир. Очень часто небесное пребывание Бога-Творца отражено в его имени. Ненцы называют Его Нум, то есть «небо», австралийские аборигены, живущие на берегах залива Шоалхавен – Мирирул – то есть «небо» или «Тот, Который на небе». Охотники и собиратели пищи Огненной Земли из племени селкнам называют Творца Темаукель – «Тот, Кто над этим». Но имя это священно и тайно, и обычно о Творце говорят иносказательно «соонх-хаскан» (небожитель) или «соонх кас пемер» (Тот, Кто на небесах). Часто небу противопоставляется земля, которую Небесный Бог создал и от Его соития с которой произошли все существа. Высшее Существо имеет предвечную природу, оно было всегда, до того, как возник мир и пришла смерть, до того, как родились иные боги. Потому его нередко называют Отцом, старцем, седовласым, древним, «ветхим днями». Например, у яхганов Огненной земли Он – Ватанинаива – наидревнейший. Бог-Творец всезнающ. Коренные жители австралийского штата Новый Южный Уэльс говорят о множестве глаз, которые и днем и в ночной тьме видят с неба все, творящееся на земле. Ясное чистое небо многими неписьменными народами видится как глаз Божий, взирающий на дольний мир. Обитатели Горного Алтая называют Высшее Существо «Ак Айас» – белый свет, ханты – «Айа Хан» – светлый правитель. Высший Бог мальгашей Мадагаскара – Андриаманитра знает все потаенное. Очень распространенные имена, связанные с отцовством Высшего Бога указывают на всеобщность представлений о Нем, как о создателе, творце мира и людей. Но иногда творение мыслится в несколько этапов. Высший Бог создает небо и небожителей, а те, в свою очередь, создают земной мир. У телеутов это – «Тенгере Кайре Кан» – милосердный правитель неба. Высший Бог также часто считается и властелином жизни и смерти. Никто не приходит в мир и не уходит из мира без воли Творца. Но Сам Он, как говорят индонезийские батаки, «Муладжади на болон» – Тот, чье начало в Нем самом. Представления о Боге-Творце у «примитивных» народов отнюдь не отличаются примитивностью. Они весьма сложны и философичны. «Кажется никакие социальные или экономические обстоятельства не определяют в причинно-следственной форме набор понятий, составляющие образ, в котором Высшее Существо открывает себя в культуре, – указывала Лауэренс Е. Салливан [188]. – После длительных споров среди ученых, ныне остается мало места для сомнений, что сложные богословские представления о Высшем Существе существовали задолго до того, как понятия исторического единобожия дошли до этих народов благодаря усилиям миссионеров или активности колониальных властей». Однако есть немаловажная черта, отличающая отношение к Богу у неписьменных и большинства письменных народов. У народов неписьменных Высшее Существо, создав мир, удалилось в глубины инобытия и редко, а то и никогда не вмешивается в дела Своего творения, перепоручив повседневный надзор за миром иным существам. «Повсюду в Африке существует представление, что Бог удалился на небо и далек от человека. Ему редко молятся, но Его имя присутствует в поговорках, обиходе. Он являет свою волю в природных катаклизмах. Он – величайшее могущество над всякой магией и колдовством» – пишет Е. Дж. Парриндер [189]. «Предание об уходе Бога с земли широко распространено в Африке, – отмечает тот же автор. – В древности Бог жил на земле среди людей, но Он удалился из мира из-за какого-то неправильного человеческого действия, обычно, проступка женщины» [190]. Исследователь австралийских религиозных представлений Т. Дж. Г. Стрехлоу подчеркивал, что «хотя в верованиях австралийцев существуют божественные небожители, они, по мнению обитателей большинства районов Австралии, не интересуются людскими проблемами и не имеют никакой власти над человеком» [191]. Эндрю Лэнг в «Становлении религии» указывал, что у самых примитивных народов есть представления о Высшем Боге, создателе и судье мира, Боге таинственном. Но Он бесконечно далек и о Нем редко вспоминают люди. Зигмунд Фрейд в работе «Тотем и табу» приводит характерный случай: в Западном Судане (нынешняя республика Мали) редко обращаются к Небесному Богу. Обычно все нужды людей удовлетворяют низшие духи. Но если засуха, моровое поветрие или иное бедствие не проходят, несмотря на настойчивые заклинания и жертвы духам, то племя сознает, что прогневан Сам Высший Бог. Но колдовские приемы и примитивные задабривания жертвами бессильны, когда обращаешься к Нему. От племени требуется изменение самого строя жизни, жертва раскаянием. И вот – объявляется пост, воздержание. Даже животным и младенцам не дают пить, чтобы они кричали и тем вызывали бы жалость у Небесного Владыки. Но такое сознание иерархии обращений от низших духов к Высшему Богу, надо признать, встречается нечасто. Как правило, о Боге-Творце почти забывают и к нему обращаются скорее по привычке и очень редко, не делая исключения и в тех случаях, когда племя попадает в отчаянные обстоятельства. Представления о Боге-Творце, как о «боге отдыхающем», не вмешивающемся в дела мира, естественно вызывает и отмирание активного почитания, культовой практики. Эта тенденция равно свойственна неписьменным народам всех континентов и число исключений тут очень невелико. У нанайцев и ульчей небу (Эндури, Боа Эндури) молились тольк раз в году. В жертву приносили свинью или собаку. В молитве принимало участие все племя и предводительствовали в ней старейшины, а обычно первенствующие в культовой практике колдуны-шаманы не выделялись. Ненцы приносили жертвы Нуму дважды в год. «Постоянные моления Высшему Богу не характерны для Африки, – отмечает Парриндер, – хотя имеются и исключения, такие как ашанти Ганы, гикуйу Кении, шона – Родезии. У этих народов имеются специальные места молитв и люди, предопределенные к исполнению культа Бога» [192]. В нанайском селении Хаю Анна Смоляк в 1972 году записала молитву, читаемую раз в году Высшему Богу, именуемому здесь Акпан. Образом Акпана является в молитве солнце. Примечательно, что сами нанайцы называют это обращение «древней молитвой» (эдэхэмбэ уйлэву). И хотя в религиозной жизни народа почитание Акпана отсутствует, эту молитву, по мнению респондентов, читать ежегодно «хорошо». «Восходящее солнце! Восходящий Акпан! Дайте хорошего здоровья, хорошей жизни! Помилуйте нас, дабы было хорошо нам! Восходящее солнце, свети мне в лицо лучами своими! Помилуйте нас, восходящее солнце, восходящий Акпан!» [193]. Обратим внимание, что в этой молитве дважды повторяется просьба о «помиловании» людей. Ныне слово это понимается нанайцами вполне утилитарно – «чтобы не болеть, жить долго». Но милость всегда предполагает какой-то проступок со стороны просящего о ней. Молитва Акпану, кажется, сохраняет след древнего чувства вины человека перед Богом, сейчас утраченного нанайцами. При общей склонности к религиозной живописи и скульптуре неписьменных народов, Высшее Существо изображается крайне редко. Парриндер [194], в частности, указывает, что хотя скульптуры низших богов и предков бесчисленны в африканском искусстве, Высший Бог никогда не изображается, хотя и мыслится «в человеческом облике»3. «Главный Бог неба – Ба Эндури, живет на девятом небе, – считают нанайцы, – Он – как человек». Его также не изображают [195]. Отвечая сторонникам теории «заимствованного Бога», Эндрю Лэнг писал: «Если бы вера в Отца Всяческих была среди дикарей результатом позднейших человеческих умозаключений, она должна была отличаться своей очевидностью и силой. Но в Австралии ее обнаружить очень трудно…, так как она является тайным верованием. В среде австралийских аборигенных народов весьма заметны молитвы предкам, жертвоприношения и служение духам и богам, в то время как Сотворившему мир Существу не приносят жертвенных даров или они очень малы, и часто Это Существо является только тенью собственного имени. Он, поэтому, не позднейшее и наилучшим образом знаемое порождение размышляющего гения, но нечто, совершенно тому обратное» [196]. Сравнивая верования доисторических народов в Высшего Небесного Бога с верованиями современных неписьменных народов, можно понять, что Бог-Творец забыт или почти забыт, «вынесен за скобки» религиозной жизни, перестал являться ее центром и смыслом. Связь с Ним или вовсе прервалась или еле теплится, хранимая древним обычаем. Но забывают ненужное. И приходится заключить, что Бог-Творец стал ненужен неисторическим народам, которые научились обходиться без Него. Бог-Творец это и не поздний плод религиозного развития, как полагали эволюционисты XIX века (Гегель, Тэйлор), и не активный Бог «первобытного откровения» (Шмидт), и не умозрительный вывод философствующего дикаря (Содерблом). Это – Бог забытый, отвергнутый, Его знали когда-то, Им жили когда-то, во времена палеолита и неолита, но от Него отказались в какой-то момент все народы, не создавшие письменной цивилизации, государства, не вошедшие в историю. Почему произошел этот «великий отказ», роковое отречение? Чтобы подойти к верному ответу, надо понять, кому отдал свое сердце, отвернувшись от Отца Небесного, первобытный человек. МАТЬ-ЗЕМЛЯ Другим существом, кроме Небесного Бога, почитавшимся доисторическими народами, как мы помним, была «Мать-сыраземля». Великая утроба, рождающая все, связанное с земной жизнью и принимающая в себя вновь то, из чего уходит божественный дух. Ее беременное умершими чрево должно было возродить их к новой, небесной жизни. Она давала человеку тело и пищу для его поддержания и потому тело человеческое вновь возвращалось в землю, «из которой было взято». Сама жизнь мыслилась, кажется, как соединение неба и земли. Бог творит землю, сочетается с ней, и в результате этого брака появляется человек, земнородный, но несущий в себе семя неба, своего Божественного Отца. Современная этнология полностью отвергла теорию матриархата, выдвинутую в середине XIX века швейцарским юристом и историком римского права Я. Бахофеном [197] и тогда же горячо поддержанную Льюисом Морганом, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Широкое распространение культа женских божеств, начиная с палеолита, матрилинейные системы родства, как показали уже несколько поколений этнологов, вовсе не свидетельствуют об эпохе, когда «материнское право» главенствовало над «грубой и несдержанной силой мужчин» [198]. Однако, несмотря на отсутствие матриархальных сообществ в доисторическом человечестве, почитание материнского и вообще женского начала достоверно обнаруживается на бесчисленных памятниках палеолита, неолита и мегалитической религии. Рождение, смерть, пища, небесное возрождение человеческого тела – все эти важнейшие моменты бытия соединяются в образе сотворенной, соединившейся с Творцом и рождающей Ему из себя Земли. Память об этой Великой Богине столь же всеобща у неписьменных народов, как и память о Небесном Отце. Благосклонная к людям, особенно к женщинам в родах, Мать-Земля – хорошо известна ненцам. Но с ней связано таинственными узами и божество смерти – Нга, слово, с которым этимологически связана Яга русского фольклора. У тюркоязычных народов Саяно-Алтайского региона известна богиня Умай [199], охраняющая младенцев и берущая к себе умирающих. Имя это очень древнее. Оно связано с почитанием огня и Высшего Небесного существа, имя которого у некоторых народов Сибири – Маин, Майис, то есть практически подобное Умай. Но, с другой стороны, у бурятов ума – это материнская утроба, у монголов – матка. Согласно верованиям хакасов, Умай хранит в недрах горы Умай Тасхал души детей. Сходство имен неба и земли не должно удивлять. Небо и Земля – супруги, их дитя – человек, потому в некотором смысле они – одно существо. С Умай в Сибири связывают лук и стрелы. Она – лук, посылающий в небо стрелу. Это – отблеск воспоминания о когда-то бытовавших верованиях о небесном возрождении умершего. В качестве хранительницы душ младенцев и помощницы в родах сохранилось почитание земли и у нанайцев. Тут ее зовут Майдя Мама, Майдя Энин (тот же корень май). Но, Матери-Земле, как и Небу, редко приносят жертвы и поклоняются. И связано этот вовсе не с тем, что неписьменные народы часто лишь недавно освоили земледелие. Деторождение, пищу, похороны умерших они знали с незапамятных времен, и их предки связывали все это с землей и потому окружали ее почитанием как средство собственного существования и посмертного возрождения. Ныне даже народы, давно практикующие земледелие, так не поступают. В Западной Африке известна Ала, великая правительница людей, питательница мертвых и подательница урожая. Она дает плодородие людям, животным и землям и принимает умерших в свое чрево. Алу часто изображают матерью с ребенком на руках, иногда, кормящей младенца грудью. Образы эти нам хорошо знакомы из неолита, и, как Вы помните, они знаменовали собой пребывание умершего в лоне земли и связанность человека через «молоко земли» со стихией земли. Но Матери-Земле не строят специальных храмов и не приносят регулярных жертв, как и ее небесному супругу. Только во время сева, жатвы и при копании могил ей творят возлияния, как бы воспроизводя этим оплодотворение земли небом, дождь – семя, нисходящее с неба на землю. Единственное, что строят для богини Ала – это «дома памяти», мбари. Они воздвигаются мужчинами и женщинами по указанию оракула или священнослужителей, как жертва. Во время работы все ее участники соблюдают полное половое воздержание. В мбари помещают многочисленные глиняные статуэтки богов и предков и обязательно – изображение Алы с ребенком на руках. Когда мбари построен, его оставляют на произвол судьбы и за несколько лет он разрушается. Очень возможно, что мбари, это – образ утробы земли, могилы и места возрождения. Но сами нигерийские ибо, среди которых распространен культ Алы, смысл мбари объяснить затрудняются [200]. Земля у неписьменных народов, безусловно, тесно связана с плодородием, деторождением, даянием пищи; речь идет не только о земледелии и об охоте, но также и о смерти и возрождении. Однако это лишь отрывочные и более или менее смутные воспоминания. Хотя рождение, смерть, пища и земля всегда рядом с человеком, но и они оказались на периферии религиозных интересов современного дикаря. В отличие от своих далеких предков, людей доистории, современные неписьменные народы уделяют Матери-Земле лишь немногим больше внимания, чем своему Небесному Отцу [201]. МИР ДУХОВ Нет в мире народа, который бы не исповедовал веру в многочисленные невидимые существа, населяющие небо, землю, подземный мир, обитающие близ человека, порою – в нем самом, или, напротив, населяющие самые глухие и труднодоступные области моря и земли, лесные чащобы, горные ущелья, пустыни. Самые «первобытные» племена австралийских аборигенов, обитателей Огненной Земли и самые цивилизованные народы равно признают их существование. Эти существа, как правило, обладают бoльшим могуществом, чем люди, они подобно людям созданы Богом, и подобно людям же, имеют свободную волю, то есть свободно могут делать выбор между добром и злом. В религиях народов исторических, где вера в Высшего Бога-Творца продолжает занимать главенствующее место, все духи обычно четко делятся как раз в соответствии с тем выбором относительно Своего Творца, который они сделали. Духи, во всем исполняющие волю Бога, считаются добрыми, именуются «слугами», «посланцами» Его в створенный Им мир (отсюда греческое «ангел» – посланник). Духи, противящиеся Богу, отказывающиеся исполнять Его волю – именуются злыми. За ними сохранено в русском языке собирательное греческое понятие «дэмонос», в дохристианской Элладе не имевшее оценочного смысла и обозначавшее все вообще сверхчеловеческие силы. Иногда, даже в исторических религиях, в особую группу относят «нейтральных» духов природы, которые одухотворяют все элементы созданного Богом мира – деревья, озера, скалы, реки. Эти, «нейтральные» духи исполняют ту роль, которая отведена им от сотворения мира, они и не добры и не злы. Но далеко не все мистики и богословы «высоких религий» соглашаются с этим «третьим состоянием» духов. В великой битве добра со злом ни одна воля не может оставаться нейтральной, она или встает на сторону Бога и добра, или противится Ему и тогда становится злой волей. Как мы видим, оценка духов происходит в исторических религиях в соответствии с их отношением к Богу-Творцу «всех видимых и невидимых» [202]. Но если Бог-Творец «вынесен за скобки» религиозного сознания, как в религиях народов неписьменных, что происходит с «классификацией» духов, с их разделением на добрых и злых? Такое разделение делается и тут, но точкой отсчета в неписьменных религиях становится сам человек. Хорошими и плохими духи становятся не относительно Абсолютного блага – Бога, но относительно человека, в котором, как известно каждому из нас на собственном опыте, дурное и хорошее переплетено до полной неразделимости. Мы ведь и людей, с которыми вступаем в какие-либо отношения делим по этому же принципу. Те, кто к нам добры, участливы – они хорошие; те, кто злы, враждебны – плохие. Если вас бросила любимая вами девушка, то она – плохая. А для того, к кому она ушла – она хорошая. Мы живем в мире ценностей относительных, и только Бог является ценностью Абсолютной, «светом, в котором нет никакой тьмы». Вынесенность Бога «за скобки» отнюдь не предполагает равнодушия «дикарей» и к духам. Мы, современные европейские народы, вместе с утратой веры в Бога утратили и веру в духов, поместив себя в антропоцентричный бездуховный мир. Внеисторический наш свременник не перестал верить в Бога, а оставил Его, пренебрег Им, но духами он не пренебрег, напротив, он остался с ними один на один, уйдя от Бога, и вынужден считаться с ними, как с естественным элементом собственного окружения – элементом могущественным, личностным и обладающим свободной волей. Ни в одной исторической религии духам не уделяется такого внимания, как в религиях неписьменных народов. У народов исторических духи находятся на периферии религиозного интереса, так как добрые духи, ангелы добры к человеку постольку, поскольку он добр к их хозяину, к Богу, а злые духи, дьяволы, бессильны нанести вред человеку без разрешения Божьего. А потому, надо служить Богу «всем естеством своим, всем помышлением, всей свободной собственной волей», и духовный мир расположится к тебе положительно, добрые духи будут помогать тебе, охранять тебя, а злые окажутся бессильными повредить. Когда же Бог отвергается, то с духами человеку приходится столкнуться лицом к лицу. И в зависимости от того, какие отношения человек смог установить с духом, он становится для него добрым или злым, врагом или помощником. Народы Нижнего Амура, нанайцы и орочи, классифицируют духов следующим образом. Злые духи – амбан, которые обычно не подчиняются людям, вызывают болезни, неудачи на охоте, рыбалке, могут погубить человека. Обыкновенные духи – свэн, охотно помогающие тем, кто их «кормит», но могущие и уйти от человека, за что-то на него обидевшись. Большинство свэн – свободные духи дикой природы, но некоторые привыкли жить с людьми, как бы «одомашнились» и когда умирает их хозяин, они требуют от другого человека, чтобы тот о них заботился в обмен на помощь и защиту от злых амбан. Как правило, новый владелец состоит в родстве с прежним, но бывает и иначе. Нередко, по представлениям нанайцев и орочей, свэн специально вызывает болезнь того человека, которого он избрал себе в хозяина. Опытный шаман, а иногда и кто-либо из близких больного распознает имя наславшего болезнь духа и ее причины, и больной начинает заботиться о свэн. Для этого шаман приглашает духа вселиться в фигурку, специально для него изготовленную опытным мастером, обещает, что духа будут хорошо кормить тем, что дух особенно любит (а у духов гастрономические склонности могут варьироваться от самых незамысловатых – каша, рыбья голова, до редких и изысканных – особая порода личинок жуков-короедов, железные опилки и т. п.). Так исполняют волю духа свэн, и он становится «домашним духом». Особо нанайцы отличали духов аями (от эвенкийского ая – хороший, милый). Эти духи были очень близки человеку, по родственному любили его. Их, в зависимости от возраста духа (возраст духов не менялся) именовали «дочка», «сынок», «сестрица», «отец», «матушка». Порой их даже называли своими «женой» или «мужем». Но эта форма родства не предполагала интимных отношений между духом и человеком, которые сибирские народы не считают в принципе возможными и единодушно отрицают. Но наименование супругом подчеркивает особую близость, доверительность между аями и человеком. Судя по некоторым описаниям, аями – родственники людей в мире духов. Аями связывался с родовым последом, с кровью первой менструации будущей матери обладателя аями, иногда женщины связывали аями со своими выкидышами. Таких духов нанайская шаманка Гара Гейкер называла, как рассказывает А. Смоляк, «голыми детьми» (сэрумэ пикгэ) [203]. Хотя духи и не вступали в интимные отношения с людьми, но влюбляться в них они могли, и по нанайским представлениям чувства в мире духов не были редкостью. Духа, влюбленного в женщину, называли «ревнующий тигр» (хуралику дусэ). Ревнуя женщину к ее мужу, он вызывал в ней болезни, которые исчезали, когда шаман вводил в фигурку тигра этого духа, а женщина начинала регулярно кормить его. Свою взаимную приязнь муж и жена при этом старались скрывать, дабы не раздражать хуралику дусэ, супружеская близость допускалась только в полной тьме, когда дух не видит. Женские духи могут влюбляться в мужчин. Но они также ограничивались чисто «платоническими» отношениями и охотно помогали своим избранникам на охоте, если те не афишировали отношения с женами. Жены вполне добродушно относились к таким поклонницам своих мужей из мира духов – они были полезны и безобидны. Иногда помогал мужчине на охоте и дух, влюбленный в его жену. 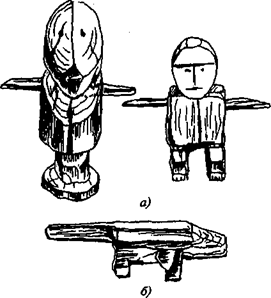 Изображения духов у ульчей (конец XX века): а) небесные крылатые духипокровители; 6) дух-тигр «Нанайцы приводят в пример замечательного охотника Ото Гейекер, долгие годы жившего на реке Анюй. Сам Ото приписывал свои успехи (он добывал в год по восемь-десять выдр) духу хоралико, имеющемуся у его жены. В благодарность за помощь он сам кормил духа, менял на фигурке стружки, заменил его старый домик-шалаш на новый, сделал для него срубик кори, окуривал его багульником (записано в 1972 г. от Колбо Бельды, селение Джари). Подобные примеры имели место и у других: опытные охотники привыкали к своим «божкам» – духам помошникам…» [204]. Таежные духи не переносили домашних запахов, особенно запаха готовящейся пищи, поэтому их фигурки, а они могли или помогать или вредить охотникам, ставили не в деревне, а в лесу, в специальном двускатном, реже коническом шалашике, около священного дерева, имевшегося у каждой семьи, – туйгэ. Два раза в год их вносили в дом, но в эти дни соблюдался строгий запрет на приготовление пиши. От запаха пищи мог заболеть дух и от него – хозяева дома. Бесчисленные духи населяют небо, землю, воды, преисподнюю. Простые люди боялись с ними общаться. Это могло привести к болезням и гибели. Амбан Мя огбони (железный человек), чтобы поймать охотника преображался в красивую женщину, якобы тонущую в озере, а рядом с ней помещал крючок, на который ловился незадачливый спаситель. В тайге часто бывают слышны женские крики куу, куу, куу – так кричит злой дух конггипу. В этом случае надо было привязать себя к дереву (иначе уйдешь на крик), затем удалить себя по носу до крови. Дух подойдет, увидит кровь и подумает, что этот человек уже убит [205]. Контакт со злым духом редко приводил к немедленной гибели. Боялись иного – болезней и напастей, которые дух насылал «касаясь» человека. «Вырабатывались различные способы борьбы со злыми духами… Так, нанайцы и ульчи рассказывали, что иногда во время промыслов в шалаше, где жили охотники или рыбаки, среди ночи поднимался старик, которому приснились эти существа. Сняв с себя нижнюю часть одежды, размахивая ею, он бегал по всему помещению и выгонял их, как мух. Особенно верили в необычайную силу копья, которым убили медведя. Поставив древко на землю, крепкий духом старик вращал наконечником в воздухе; присутствовавшие при этом говорили обычно, что в темноте зимовья с наконечника слетали искры, от которых погибали злые духи» [206]. Примеры отношений людей с духами можно приводить до бесконечности, и, конечно, не только из жизни нижнеамурских народов. Исследователь любого племени при некотором старании соберет целые тома таких повестей, случившихся с самим рассказчиком и его близкими, многое исследователь сможет наблюдать и сам, если простые люди, среди которых он живет, проникнутся к нему доверием и симпатией. При различии имен духов и некоторых бытовых подробностей в целом отношения неписьменных народов с миром духов оказываются до удивления единообразными и у северного полярного круга, и на экваторе, и у индейцев Патагонии, и у негритосов Малакки, и у племен Алтая и Саян. Да и мир духов описывается всеми ими очень сходно. Еще одна загадка для религиоведа. Каковы же эти основные черты? Во-первых, как правило, духи, которые помогают или мешают людям, это не духи предков, но независимые духи, лишь служившие, или вредившие предкам. Это – особые существа, а не умершие люди. Во-вторых, качества духов не зависят от места их обитания. Небесные духи вовсе не всегда хорошие, подземные – плохие. Духи за редкими исключениями (аями), сами по себе равнодушны и скорее враждебны человеку, но, применяя особые приемы, их можно расположить к себе или хотя бы нейтрализовать. Даже у высших небесных духов (Лаои, Саньси) в подчинении имеется немало амбан, насылающих болезни и несчастья. А. Смоляк [207] приводит следующую молитву: «Звезда! За здоровье больного ребенка убью тебе свинью» и объяснение произнесшего ее нанайца: «Верхний бог Саньси хочет свинью получить – забирает душу человека. Тот болеет, за него молятся, дают этому богу свинью». Наконец, в-третьих, объектом поклонения никогда не бывают сами по себе материальные объекты – статуэтки, пучки соломы и т. п., но только духи, «вселенные» в эти предметы. Если дух убегал из предмета, в который вселил его колдун и не желал возвращаться, «священный предмет» уничтожался или выбрасывался в лес без всякого почтения, так как, по объяснению нанайцев – он теперь «пустой». В XVIII и XIX веках среди ученых, изучавших человеческие сообщества, широко было распространено понятие фетишизм. Фетиш – feitico – слово португальского языка (от латинского facticius – магически искусный), обозначающее рукотворный предмет, являющийся объектом религиозного действия. Португальские мореплаватели, с XV века начавшие совершать путешествия к берегам Африки, к югу от Сахары, этим словом именовали многочисленные предметы, использовавшиеся африканцами в их религиозной жизни. Будучи хорошими христианами, португальские путешественники видели в африканцах примитивных идолопоклонников, боготворящих изделия собственных рук – фетиши. В 1760 году Шарль де Броссе опубликовал работу, в которой доказывал, что все религии возникли из фетишизма. В XIX веке Огюст Конт объявил фетишизм одной из начальных форм развития сознания, когда человек еще не до конца отделял себя от неживой природы и потому одухотворял как изделия своих рук, так и некоторые естественные формы. В середине ХIХ века мнение о том, что дикари молятся идолам-камням и деревьям, обожествляя их, было широко распространено в Европе, и именно его восприняли К. Маркс и Ф. Энгельс, широко используя понятие фетишизма и в прямом, антропологическом, и в переносном («товарный фетишизм» и т. п.) смысле. Однако уже к концу XIX века этнологам стало совершенно ясно, что «дикари» поклоняются не материальным предметам, но пребывающей в них духовной силе. Поначалу эту силу считали безличной мистической энергией, именовали на меланезийский манер – маной (теория аниматизма Роберта Рэнальфа Маретта, выдвинутая этим учеником Тэйлора в 1910-е годы), но более аккуратные исследования обнаружили, что за каждым «фетишем» стоит определенный дух, «вселённый» в предмет опытным колдуном, или вселившийся самостоятельно. Фетиши оказались только домами, или материальными телами духов. Современное религиоведение понимает фетиши только в этом, последнем смысле. Фетишизма, как поклонения материальным предметам, не существует, но фетиши, воплощения духов, имеют широчайшее распространение среди неписьменных народов. Однако знаки внимания, почитания оказывают всегда не материальному предмету самому по себе, но духу, с ним связанному, в нем пребывающему. Духов в мире множество – «их везде много, больше чем в деревне людей. Когда лес рубим для дома, на каждой лесине сидит черт» – рассказывал шаман А. Коткин Анне Смоляк в 1970 году Ульч Гавриил Бонга из селения Монгол в 1962 году поведал тому же исследователю: «Я видел в 1921 году на озере Иркутское мелких чертей, размером в палец человека, по форме похожих на людей, их были «тучи», множество, они шли массами и исчезали у корня лиственницы. Дедушка мне сказал: «Это духи сулбэ сэвэни, они охраняют золото в озере». Среди народов Нижнего Амура распространены предания, что прежде все духи были добрыми, благожелательными к людям, но некоторых из них не почитали, и они, рассердившись на людей, стали злыми. Особенно интересно широко распространенное среди нанайцев и ульчей предание о том, что злые духи были когда-то людьми, но в результате нарушения ряда запретов в сфере брачных отношений превратились в злых духов. «В 1973 году от шаманки Дэя Дян в селении Ухта была записана следующая легенда. «В тайге женщина без мужа родила мальчика и девочку (по-видимому, близнецов. – АС.) и бросила их в реку. Дети плыли по течению, пристали к берегу. Мальчик прилепился к дереву пунгда (тальник), девочка – к кэндэлэн (акация), питались грибами. Через 15 лет они выросли как люди, познакомились, ничего не зная друг о друге. Сделали домик, стали жить. Подрастали их дети, мальчик и девочка. Мальчик пошел на охоту – никого не может убить. Лоси, утки – все смеются над ним: «Ты зайчонок, тукса, как меня убьешь?» (ульчи называли тукса ребенка, рожденного без отца). Плачет мальчик, прибежал домой, спрашивает у матери, та молчит. Нож к груди приставил – тогда только рассказала ему и дочери об их происхождении (они, родители, не зная о родстве, стали мужем и женой). Мальчик заплакал: «Не могу более тут жить». Он выстрелил из лука и, ухватившись зубами за стрелу, улетел на небо, стал небесным злым духом-тигром дусэ (унде амбан онды). Это главный злой дух, от которого сходят с ума и сердце сильно болит. Сестра парнишки сказала: «Я буду ибаха онды, сводить людей с ума здесь на земле». Отец детей запряг собак и уехал в тайгу, став злым духом дуэнтэ дусэ (таежный черт, насылает разные болезни). Их мать стала «водяным тигром» – тэму дусэ или хуралику дусэ сэлчэни, от этого духа умирают в судорогах. Эти злые духи – главные в своих сферах, забирают души людей, мучают их. Шаманы хорошо знают дороги этих духов, и во время камлания идут по ним, отыскивают душу» [208]. Обратим внимание, чтонезаконная связь, попытка убить рожденных вне брака детей и их невольное кровосмешение (инцест) считаются у нижнеамурских народов причиной появления злых духов. Итак, мир духов окружает со всех сторон людей, принадлежащих к неписьменным обществам. Отвергнув Бога-Творца, они погрузились в этот мир, стали его частью. Одно дело, полагать Всемогущего Бога защитником от злых сил, а другое – научиться ладить с ними, побеждать их, обманывать самому. Зная о существовании Бога-Творца неписьменные народы, как правило, не прибегают к Его заступничеству, когда их одолевают злые духи. С духами они борются с помощью других духов, которые из-за умения колдунов или по каким-либо иным причинам становятся помощниками человека. Эванс-Притчард употребляет два слова для колдовства в Африке: withcraft и sorcery – ведовство и чародейство, ворожба [209]. По мнению всех без исключения африканистов, и ведовство, и чародейство совершенно обычны среди коренных народов Черной Африки. «Почти невозможно найти кого-нибудь, кто бы не верил в существование колдунов, как одного из основных элементов общественной жизни и подлинной реальности, а не абстрактной идеи» – указывает шведский этнолог Р. Таннер [210], а прекрасный отечественный африканист Ирина Синицина писала: «Верования, касающиеся магии и ведовства, остаются частью повседневной жизни в деревне и вживаются в быт современных крупных городов. Не только крестьяне, но и государственные служащие, врачи, студенты, профессора университетов, политические деятели, служители религиозных культов, относящихся к мировым религиям, образованные люди разделяют представления, что ведьмы и ведуны – явление вполне реальное… Литература Африки эмоционально, с тонким проникновением в духовный мир человека передает силу подобных представлений, присутствие их во всех сферах жизни (напр. Г. Огот. Амулет из слоновой кости. Рыбак //Африка. Литературный альманах. Вып. 1, М., 1981.). В распространенных взглядах фигурируют колдуны – лица, занимающиеся ворожбой, знахарством, совершающие магические действия и предсказывающие будущее (гадатели), и ведуны – тайные носители зла, обладатели врожденной зловещей силы. Страх общин перед колдовством чрезвычайно велик. Многие ученые – западноевропейские и африканские – считают, что изучение ведовства представляют один из ключей к пониманию взаимоотношений между людьми в африканских общинах» [211]. Современный религиоведческий материал, равно как и данные палеоантропологии, безусловно, свидетельствуют, что вера в духов не предшествовала вере в Бога-Творца, что современные неписьменные народы, живущие в мире духов, – суть не религиозно «неразвитые», но отступившие как бы «в сторону» от богопочитания. Почему они поступили так? – иной, и надо признать, очень нелегкий вопрос. Но «вынесение за скобки» Бога-Творца не могло не привести к существеннейшим изменениям религиозного сознания, не отразиться на всем строе как внутренней, духовной, так и внешней жизни. При игнорировании, забвении или отрицании абсолютного Центра бытия, его Создателя и Держателя, все линии человеческой жизни приобретают особую конфигурацию. В сфере религии изменения, понятно, должны отличаться особой существенностью. Анимизм, предложенный Тэйлором, есть не этап религиозного развития, но особое состояние религиозности, характерное для тех людских сообществ, которые, ослабив до предела, а то и разорвав связь с Богом Вседержителем, связали себя с миром духов, погрузились в него, поскольку «свято место пусто не бывает». TOTEM Слово «тотем», или, точнее «дотем» пришло из племени оджибва североамериканского индейского народа алгонкинов. На языке этого племени «дотем» – характеристика кланового родства. Именно в период освоения белым человеком Северной Америки обратили внимание на то, что кланы индейцев часто называются именами животных, растений и сил природы. В XIX веке подобные примеры были зафиксированы и в иных странах и регионах – Австралии, Сибири, Южной Америке, Африке. Господствовавшие в XIX веке теории социального эволюционизма тут же интерпретировали обычай именовать племя по какому-либо животному и почитать это животное – этапом развития. Народы, почему-либо «замерзшие» в первобытности, сохранили обычаи, обнаруживаемые лишь в качестве следа, «пережитка» у народов культурных. З. Б. Тэйлор полагал тотемизм одной из ранних форм анимизма, когда человек еще не отличал себя вполне от иных форм жизни и все эти формы уподоблял себе. Отсюда представления о животных предках племени. Герберт Спенсер, полагал, что тотемизм возник из личного имени. Какому-то воину за его хитрость дали прозвище лиса. Его дети именовались детьми лиса. Через несколько поколений лис начал почитаться потомками, как предок и покровитель племени. Сэр Джеймс Фрезер, опираясь главным образом на этнографический материал, полученный от изучения верований австралийских аборигенов, обитавших в пустынных центральных районах континента, пришел к выводу, что тотем – это способ религиозного освящения социальной организации. Причем в качестве тотема избирается растение, животное, природное явление экономически существеннейшее для жизни племени. Где главным объектом питания является особый вид кенгуру, там эти кенгуру – тотем, где – личинки особой породы жуков, там тотем – эти жуки [212]. Эти мнения эволюционистов подверг критике Александр Гольденвейзер в статье «Тотемизм: аналитическое исследование». На обширном материале американский ученый показал, что связь с тотемом не совпадает часто с границами клана, тем более – употребимой пищи. Принадлежность к тотему существует независимо от иных социальных, религиозных или бытовых переменных – сделал вывод Гольденвейзер [213]. Позднейшие исследования подтвердили это утверждение. Хотя совершенно произвольные суждения о сущности тотема еще высказывались, например, Эмилем Дюркгеймом [214] и Зигмундом Фрейдом [215]. В 1960-е годы к проблеме тотемизма обратился Клод Леви-Отросс. В монографиях «Тотемизм сегодня» и «Сознание дикаря» [216] он настаивал на том, что тотемизм – это искусственное построение этнографов XIX- XX столетий. На самом деле тотемизм – не более чем способ называния различных социальных реальностей. Одновременно, в 1960-70-е годы, главным образом на австралийском материале были предприняты новые систематические исследования P. M. Берндтом, К. П. Моунтфордтом, А. П. Элкиным, Т. Г. Х. Стрехлоу, В. Е. Х. Станнером, Е. А. Вормсом. Эти ученые выявили очень своеобразную систему представлений о творении мира и человека, в которой важнейшую роль играют сущности, именовавшиеся антропологами тотемами. Время и бытие начались тогда, когда из вечности возникли, вышли многочисленные существа, которые довольно условно именуются австралийцами «предками». Коренные народы Австралии используют понятие «выход из вечности» (на языке аранда – альтжиранда нгамбакала), понятие и для нас нелегко сознаваемое. Действительно, при изучении религиозных представлений «примитивных племен» обращает на себя внимание далеко не примитивная глубина, делающая их сопоставимыми с шедеврами богословской мысли высококультурных народов. Скорее современный белый человек, живущий исключительно интересами телесного комфорта и сиюминутной приятности, покажется дикарем австралийцу, глубоко переживающему тайну своего бытия. До того момента, как сверхъестественные существа вышли из вечности, земля была «безвинна и пуста», не было ни солнца, ни звезд, ни воды, ни гор. Существа имели различный облик – некоторые напоминали определенные породы животных, другие – во всем были подобны людям. Но, независимо от внешности, все они являлись сознательными и могущественными существами как женского, так и мужского пола. Некоторые из них, хотя и не имея облика растений, были связаны с ними, создали их и питались ими. Другие создали животных «своих» пород, третьи – создали леса, реки, вывели на небо светила. Люди, подобно земле, лежали единой нерасчлененной массой, находясь в эмбриональном состоянии. Эту массу людских зародышей «предки» тщательно разделили, вырастили, и так появились первые люди. Таким образом, люди не являются потомками вышедших из вечности сверхъестественных существ, но, скорее, их созданиями. Когда мир был обустроен, предки вернулись в инобытие, вышли из сформированного ими пространства. За время своей жизни в мире они совершили различные деяния, частью героические, частью – глубоко безнравственные – типа инцеста и людоедства. Преданий о деятельности предков «во время оно» бесчисленное множество среди австралийцев. Существа эти оказались подверженными страданиям и болезням, но не смерти. Даже те из них, кто были убиты, превратились в скалы и иные священные объекты, в которых они продолжают свое существование. Уход «предков» из мира совпадает с вхождением в мир смерти, которая появилась случайно, из-за каких-то неправильных действий людей и «предков». Те места, где «предки» вышли из небытия и те, где они вновь ушли в него, особо почитаются австралийцами как священные. Священны также те объекты (скалы, родники), в которые превратились тела предков. «В сравнительно хорошо обводненной части Австралии практически каждый элемент пейзажа связан с какимлибо преданием или священной песней, – указывает Т. Г. Х. Стрехлоу [217]. – Австралийская мифология повсюду соединяется с природным ландшафтом». Считается, что хотя «предки» ушли в инобытие, некоторый духовный след их пребывания в мире сохраняется. Особенно явен он там, где они вошли в мир и где покинули его. Поэтому места такие священны. Вход в них непосвященных и вне особых ритуальных моментов карается смертью. В этих местах люди совершают ритуалы, воспроизводящие те, что совершали «предки» «во время oно», и которые привели к возникновению этого мира и всего, что наполняет его. Песни, которые при этом поются, воспроизводят мелодии, данные «предками», слова их – повести о деяниях «предков» и содержат «подлинные творческие глаголы, которыми был создан этот мир» [218]. Ритуалы эти связаны не столько с этой временной жизнью австралийцев, сколько с инобытием. Каждый человек, по представлениям большинства племен Австралии, имеет кроме естественной человеческой души еще и душу «предка», вошедшую в него в материнской утробе. Вхождение этой души обусловлено специальными обрядами и она-то делает человека членом определенного тотемного клана. Все члены такого клана – как бы одно целое, ибо они имеют единую тотемную «душу». Потому в таком клане невозможны браки между«родственниками». Существовало среди этнографов даже представление, что австралийцы вовсе не видят связи между соитием и рождением, что беременность наступает от «тотема». Сейчас ясно, что столь наивными австралийцы не являются. Но они убеждены, что человек – это соединение двух душ: человеческой от отца и матери, и тотемной – от предка. Знак «предка», в котором обитает тотемная душа, австралиец часто носит с собой. Это, на языке аранда, чуринга – раскрашенный камень, украшенная резьбой дощечка, раковина. В ней – жизнь человека. После смерти телесная душа какое-то время пребывает рядом с телом, а потом растворяется в лучах солнца, тотемная же – возвращается к «предку», давшему ее. Запреты на разглашение тайных отношений с «предком» столь строги, что антропологи до сих пор не могут точно воспроизвести механизм соединения индивидуальной души человека с духом «предка» в вечности. То ли это растворение и утрата личности, то ли сохранение. То ли личность австралийца на онтологических глубинах вообще не индивидуализирована и он ощущает себя лишь эмпирическим проявлением «тотема». Есть ряд точек зрения по этому вопросу и все они не до конца достоверны. Хотя австралийцы и сейчас живут бок о бок с нами, на наши распросы ответов они предпочитают не давать. Впрочем, даже то немногое, что мы знаем, позволяет сделать некоторые заключения. Мир обустроен (но не создан!) и человек приведен в свое нынешнее состояние (но опять же – не создан!) некоторыми существами, безмерно превосходящими человека силой, обладающими свободной волей, которую они равно успешно употребляют и на доброе, и на плохое. Именно эти существа органически связаны с человеком через «тотемную душу» и именно к ним стремится уйти человек в страшный миг смерти. Иногда исследователи конца ХIX – начала XX века ошибочно принимали тотем племени за Бога-Творца, ибо аборигены рассказывали немногим прошедшим посвящение белым, что такое-то великое существо создало нас, оно – «наш отец». Теперь ясно, что таких «создателей» австралийцы знают множество. Это – не Бог-Творец, но духи, созданные Им, исшедшие из ЕгоБожественной вечности. Подобно нанайцам и орочам, о которых речь шла чуть раньше, австралийцы живут в действительности в мире духов. Духи эти, как и люди, обладают свободной волей, склоняются и к добру, и ко злу. Но если нижнеамурские народы не задаются вопросом о творении мира и о своем отношении к его устроителю, то австралийцы делают это с замечательной последовательностью. Нанаец сознает мир духов как данность, с которой нужно научиться жить «по-хорошему». Австралиец ощущает себя частью мира духов, он и его родители заботятся о том, чтобы с первых моментов существования в нем пребывала «тотемная душа предка», иначе говоря, тот демон, который «опекает» этот клан, семью, род. Ощущая в себе небесное семя, Дух Бога-Творца, древний человек устремлял свои упования к небу, связывал свою победу над смертью с воссоединением с Небесным Отцом, образом которого так часто было жизнедательное солнце или бездонное сияющее небо. Австралиец мыслит иначе. Он носит в себе духа рода, с этим духом утверждает он свое единство в таинствах, с ним же он соединяется и посмертно, обретая в такой форме искомую всеми людьми победу над смертью. Но знают ли аборигены Австралии, что за тотемными предками присутствует иная сила, действительно сотворившая и мир и этих духов? Кажется, знают. Тот же Стрехлоу пишет: «Хотя предки вполне свободны в своих действиях от какой-либо высшей силы и хотя пути их подвигов лежат «по ту сторону добра и зла», из эпилогов многих священных преданий явствует, что повсюду аборигенная религия усматривает и признает наличие некоторой неопреодолимой безымянной Силы, способной привести в конце концов к падению даже самые мощные земнородные сверхъестественные существа, сознательно нарушившие те самые нравственные законы, которые управляют поведением их позднейших человеческих воплощений. Сила эта не определяется в специальных понятиях и даже не имеет имени в преданиях аборигенов. Она просто подразумевается, когда речь идет о возмездии над теми преступными «предками», которые совершили такие ужасные деяния как каннибализм или убийство близкого родича» [219]. Итак, в австралийской религии, как и в религиозных представлениях других неписьменных народов, присутствует в «вынесенной за скобки» форме знание Высшего Бога, хранящего, в частности, и нравственный закон. Но в отличие от иных «дикарей», организация жизни в мире духов достигает у австралийцев очень высокого уровня. Духи являются не только «частью ландшафта», но и создателями, отцами и конечной эсхатологической целью существования аборигена. Это – предельная из известных ныне форма демонизма. МИРОВОЕ ДРЕВО И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕХОД Когда мы говорим о такой своеобразной религиозной системе, как австралийский «тотемизм», следует избегать привычных эволюционистских понятий «уже» и «еще не». Мы не можем с какой-либо долей уверенности сказать, что австралийский «пандемонизм» – более ранняя форма, позднее распавшаяся у иных неписьменных народов. Не можем мы также и сказать, что верования австралийцев еще не развились в более высокие формы, характерные для неписьменных народов Азии, Африки или Америки. Мы можем лишь констатировать моменты сходства и моменты отличия между этими формами, но неписьменный характер сравниваемых нами культур не позволяет заглянуть в тысячелетия, предшествовавшие тому моменту, когда этнографы сто-двести лет назад серьезно обратили внимание на верования «дикарей». Понятие «пережитки тотемизма», которое часто встречается в работах по религиозным представлениям «первобытных народов» – не более чем домысел, не подтверждаемый фактами, так как мы не знаем, чем жили эти народы в прошлом. Если у австралийцев внимание к творению мира «предками» – основание личных религиозных упований, то для «неписьменного человека» Евразии интерес очевидно смещен с момента творения на момент нынешнего устроения мира. Равно, ульч или индонезийский батак главным образом заинтересованы в практическом знании духовного мира вокруг них, которое бы позволило им стать хозяевами в этом мире. Претензия – невозможная для австралийского аборигена, ощущающего себя во многом лишь человеческой эманацией могущественных демонических сил. Структура мира, его уровни, способы перехода с уровня на уровень принципиально важны для большинства неписьменных народов. Жизнь в мире духов требует овладения этими для нас, казалось бы, совершенно лишними знаниями. Принципиально мир трехчастен. Его образуют небо, земля и преисподняя. Небо и преисподняя столь же полны жизнью, как и земля. И там есть свои люди, духи, природные объекты. Ландшафт неба и подземного мира во многом подобен тому, какой известен данному племени из повседневной жизни. В преисподней нанайцев также течет Амур, есть свои деревни, сопки, тайга, озера. В преисподней даяков Калимантана – море, острова, заливы, джунгли, вулканы. Преисподняя – мир умерших на земле людей. На небе также обитают некоторые предки, особенно прославившиеся героическими деяниями, но, кроме того, и особые люди, не имеющие родства с земными. И небо, и преисподняя не едины, но почти всегда подразделяются на уровни. Число уровней неба равно числу уровней преисподней. Как правило, их по семь или по девять. Каждым уровнем управляют особые духи, и дабы проникнуть на него, надо получить от них согласие. Хотя такой мир напоминает слоеный пирог, он един. Образом единства является мировое дерево или мировая гора, соединяющая все уровни. В северных широтах полагают, что к вершине мировой горы прикреплена неподвижная полярная звезда. Вершина эта находится на высшем небе и по склону горы должен суметь подняться колдун, желающий обрести знания или вернуть потерянную кем-либо из соплеменников душу. Иногда образ горы соединяется с образом дерева или подменяется им. У хакасов белая береза с семью ветвями растет на вершине железной горы. Ее ветви достигают дворца «императора неба» Бай Ульгена, а корни, уходя в преисподнюю, там превращаются в черную ель, растущую перед дворцом владыки страны мертвых Эрлик-хана. И на березе и на ели по семь ветвей, обозначающих число уровней каждой из этих двух зон. Дерево, растущее на вершине горы и достигающее своей макушкой высшего неба, может быть названо деревом жизни. Очень распространены поверил, что каждый его лист связан с определенным человеком. Опадает лист – человек умирает. В тунгусских сказаниях на ветвях этого дерева сидят в виде птичек оми – души еще не родившихся младенцев. При зачатии они слетают с дерева в материнскую утробу, но некоторое время не теряют с ним связи. Даже первые недели после рождения младенец еще чувствует себя обитателем не земли, но мирового дерева тууруу. На этом же дереве висят главные предметы, используемые в шаманских камланиях. Мировое древо и мировая гора – образы известные очень многим народам и религиозным системам. Их первоначальная символика достаточно проста – это вырастание земли к небу, устремленность дольнего в горняя. Дерево к тому же еще и живое существо, оно зримо растет ввысь, оно приносит листья и плоды, могущие использоваться как лекарства. В сущности, вырастание земли к небу – образ брака неба и земли, их соединения, в результате которого появляется человек – созданное из персти существо, но несущее в себе духовное семя неба. Можно предположить, что универсальная идея мировой горы возникает не без участия древнего образа кургана – беременного живота земли. В доисторической древности курган являлся символом возрождения к вечной, небесной жизни, менгир-пуповина соединял усопших с небом, с Отцом-жизнедателем [220]. Понятия мировой горы и мирового древа развились из этих символических образов, потерявших свое исходное значение в культурах, вынесших «за скобки» и небо, и землю. В неписьменных культурах неба оказалось возможным достичь не через смерть и воскресение, не через напряженное усилие по преодолению собственной «плохости», но умением подняться по склону горы, взобраться по ветвям мирового древа. Да и цель достижения неба стала иной – не вечное пребывание с Небесным Отцом, но решение с помощью небесных сил каких-либо вполне земных проблем, стоящих перед общиной или кем-то из общинников. При всех трудностях восхождения, гора все же есть единственный путь к небу, который опытный человек может освоить сам, без чьей-либо посторонней, в том числе и божественной помощи. Другое дело, всегда ли можно, взбираясь по этому склону или по стволу этого «мирового древа», достичь конечной цели. И не случайно, что именно в неписьменных культурах такой особый интерес испытывают люди не к выходу за пределы неба, но к освоению всей сложной системы небес и преисподних. Здесь, в обиталищах духов, человек, вынесший Бога «за скобки», чувствует себя наиболее уверенно. Здесь входит он в отношения с повелителями уровней, «господствующими в воздухе». Однако выйти с земли на иные уровни не так-то просто. И в народных преданиях и в переживаниях колдовского транса очень часто имеется образ «узкой щели» между землей и небом, щели, «через которую дует ветер». В эту щель умудряется проникнуть знаток – и в результате выходит в миры духов. Среди оснащения шамана обычны предметы с трех-, семи- и девятичастной символикой – шест с семью зарубками, шнур с девятью узлами, грибмухомор с семью пятнышками, который вручает вновь посвящаемому саамский колдун. Все они – образы, указывающие на свободное перемещение их владельца по космическим уровням. Примечательно, что в среде неписьменных народов обычны предания о том, что когда-то, в незапамятном прошлом, переходы с уровня на уровень были просты и доступны каждому. Смерти тогда не было, а землю и небо соединял мост. Когда в мир вошла смерть (обычно по причине какой-либо случайной оплошности человека), то мост утончился до острия ножа, стал непроходимым для людей, обремененных телом. Только умерший может по нему уйти в царство мертвых, да шаман в духовном теле, пролететь через образовавшуюся пропасть. Не случайно одеяние шамана очень часто включает перья птицы – образ полета. Представление о пропасти, отделившей небо от земли одновременно с вхождением в мир смерти, характерно равно и для неписьменных и для письменных народов. Ангел с огненным мечом, стоящий у врат рая, из которого после грехопадения и осуждения на смертность изгнаны были Адам и Ева, известен всем авраамическим религиям. 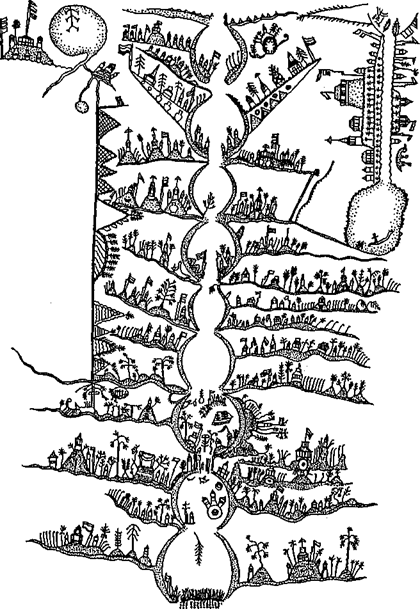 Рисунок Верхнего мира у даяков племени нгаджу 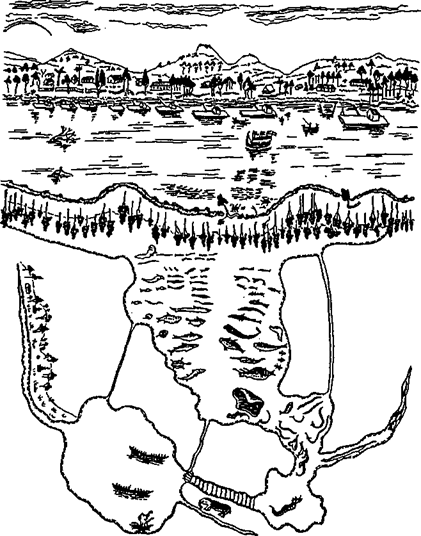 Рисунок Нижнего мира у даяков племени нгаджу О глубочайшей пропасти между раем и адом говорится в притче, рассказанной Христом ученикам [Лк. 16, 26]. Мост-Разлучитель (Чинвад), переброшенный через бездонную пропасть, отделяющую рай от земли, хорошо известен современным парсам – зороастрийцам, возносящим специальные молитвы, чтобы душа человека на четвертый день после смерти благополучно прошла по нему. Шнур, связывающий березы при шаманском камлании у сибирских народов так и называется «мост* и означает путь, которым шаман восходит на небо и потом вновь спускается на землю [221]. «Остер как лезвие бритвы, неодолим, недоступен этот путь», сказано о дороге к Богу в священном индийском тексте [Катха упанишада 1, 3, 14]. Но если в религиях письменных народов пропасть между землей и небом преодолевается нравственным усилием, верой в Бога и упованием на Него, то у неписьменных народов – приемом техническим, знанием, умением. Так же как и сама смерть в одном случае явилась результатом нравственного падения, в другом – случайной ошибки, результатом «незнания». Потому и мост удается перейти в письменных культурах тому, у кого добрые дела перевешивают злые, а в неписьменных – имеющему навык оставления тела, колдовского полета, способному заставить хранителей моста пропустить его, или знающему как обмануть их. Здесь пролегает одно из нагляднейших различий между религией и магией, молитвой и колдовством. Лекция 7. РЕЛИГИИ СОВРЕМЕННЫХ НЕПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР МНОГОСОСТАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК Для современного человека открытием часто бывает, что он «не только плоть», что кроме тела человек обладает еще и душой, которая, хотя и связана с телом, – не есть его часть, но человек и не тело, и не душа, а результат соединения двух этих сущностей. В современном мире материальных ценностей, материальных удовольствий, материальных устремлений мы очень часто всего себя отождествляем с материей, с телом, и лишь какие-то серьезные переживания при полном физическом здравии могут заставить нас сказать: «Душа страдает». В редких, исключительных случаях душа ненадолго и ныне возвращает себе автономию, чтобы затем вновь надолго быть поглощенной телом, быть растворенной до полной неощутимости в нем. Верующие люди полагают утрату чувства души величайшей бедой современного человека, атеисты исчезновение веры в душу, как в особую субстанцию, способную существовать после смерти физического тела, – считают прогрессивной победой научного знания над религиозными предрассудками. Для человека, принадлежащего к неписьменным народам, такой дилеммы не существует. «Дикарь» ощущает себя средоточием многих энергий и сил, для которых тело является только временной оболочкой. Наиболее близка телу «душа», полученная от матери. Нанайцы именуют ее, судя по сообщениям русского этнографа начала XX века. А. Н. Липского, уксуки, оксой (тень, «отражение в глазу») [222]. После смерти души эта пребывает на могиле и, в конце концов, «умирает». Уже в 1960-е годы об уксуки ни шаманы, ни простые старики нанайцы не могли рассказать Анне Смоляк ничего вразумительного, они пугались, спорили между собой, идет ли уксуки в царство мертвых или нет, некоторые вообще отрицали существование такой сущности как уксуки. С другой стороны, шаман Мало Онинка в 1970 году объяснял ученому, что во время камланий он видит уксуки четко и ясно, а иные души «смутно, как в тумане» [223]. Однако, хотя у нанайцев память об уксуки утратилась, аналогичная сущность хорошо известна многим народам. В Древнем Риме считали, что на могиле пребывает «тень» человека. У индейцев дакота одна из четырех душ человека после смерти «остается в теле». Гонды Индии думают, что одна из четырех душ «умирает с разложением тела». Среди австралийских аборигенов очень распространены воззрения, что после смерти душа некоторое время находится близ тела, а затем «растворяется в воздухе». Европейские (архангелогородские) ненцы считают, что сидрянг – тень умершего человека «живет в чуме и ходит вокруг семь лет, а затем умирает» [224]. По всей видимости, во всех этих случаях речь идет об одной и той же сущности, об энергии тела. Энергия эта неотделима от тела, как и само тело «ткется» из материнской крови, которой омывается и питается зародыш. Не момент физической смерти, но полное нетление тканей прекращают все процессы в человеке, и потому эта «душа» умирает, растворяется не сразу после смерти, но спустя какое-то время. Поскольку душа эта, в конечном счете, смертна, а в воскресение тела неписьменные народы не верят, о ней забывают в первую очередь. И потому нет ничего странного в том, что об уксуки после семи десятилетий антирелигиозной советской пропаганды память почти изгладилась. У исторических народов этой душе также уделяют, как правило, немного внимания. В Европе, например, до Нового времени сохранялось только представление, что призраки, в отличие от живых людей, «не отбрасывают тени», что и обнаруживает их бестелесность. Намного лучше, чем уксуки нанайцы знают другую душу человека – панян, хотя она в камланиях шаманов и во снах простых соплеменников видится несколько туманной. Панян – душа земного человека. Именно панян в виде птички слетает с дерева нерожденных душ – oмиа мон*и – в утробу матери. Зачатие так и именуется у нанайцев – омиа догохани – душа садится в женщину. Первое время после зачатия и даже после рождения душа еще ощущает себя насельницей мирового древа, но постепенно она все более и более переключается на этот земной мир, забывая омиа мони и язык духов. Омиа в это время превращается в панян [225]. Если уж мы верим в существование души, то не сомневаемся, что при жизни человека его душа и тело неразделимы. Только смерть есть отделение души от тела. В этом пункте представления многих неписьменных народов диаметрально отличаются от наших. «Многим старикам нанайцам, шаманам и нешаманам, я задавала один и тот же вопрос: «Где сейчас находится моя душа? А ваша, вашего мужа, ребенка?» Простые люди обычно отвечали: «Это может знать только шаман». Ответы шаманов были различны, и это естественно, ибо по их представлениям моя душа в любой момент может находиться где угодно, узнать, где именно, можно только во время камлания, с помощью духов… Ни один человек не сказал, что душа находится во мне, внутри меня (в крови, в дыхании, в сердце и т. п.), хотя подобные вопросы и ставились. Обычно нанайцы говорят, что душа человека – панян… живет около человека, иногда на нем (на плечах, на лопатках, на спине, у шеи, на волосах). Но чаще всего, по их мнению, душа ходит где угодно, подвергаясь всевозможным опасностям. Мы записали от старых нанайцев весьма показательный обычай, связанный с понятием о душе: в прошлом нанайцы уезжали из постоянных зимних жилищ на рыбалку, на путину, где жили семьями один-два месяца. При отъезде, погрузив все имущество, детей, собак в лодку, старики, обернувшись к покидаемой стоянке, кричали, звали детей по именам, хотя все дети сидели уже в лодке… Так же поступали перед возвращением с места сбора ягод, где несколько семей проводили два-три дня. Это делали из опасения, чтобы души детей не остались в этих глухих местах одни; это могло бы повредить детям, так как в тайге душу могут схватить злые духи» [226]. Собственно говоря, главный нерв шаманизма заключается как раз в представлении, что душа живого человека «ходит, где хочет», и от бед, случающихся с душой во время ее странствий, человек жестоко страдает. Для того чтобы вызволить незадачливую душу, склонную к бродяжничеству, из беды, и камлает шаман. Из тех расспросов, которые учиняет во время камлания шаман больному, совершенно ясно, что представления о вольном странствии души непосредственно проистекают из сновидений. «Видел ли ты во сне то-то и то-то?», – постоянно спрашивает нанайский шаман больного и, когда получает положительный ответ, считает, что он правильно идет по следу потерянной души. Панян имеет полное физическое сходство с тем человеком, к которому она относится. Когда шаман, во время своих потусторонних странствий, находит заблудившуюся душу, родственники больного вовсе не склонны верить ему на слово. Начинается илгэси – обряд идентификации панян. Шаман должен рассмотреть душу, те части ее тела, которые обычно скрыты одеждой, и назвать характерные особенности – шрамы, родимые пятна и т. п. О наличии аналогичных отметин на теле больного знает, понятно, лишь он сам и его ближайшие родственники. Если шаман угадал, все в порядке, душа действительно найдена та, какая разыскивалась, если не угадал – то подобрана какая-то чужая душа – а душ немало валяется на шаманских дорогах, и поиск продолжается. Примечательно, что шаман, часто впервые в жизни встречающийся с больным во время камлания, как правило, не ошибается во время илгэси. Представление о том, что одна из душ человека во всех деталях воспроизводит его физический облик – представление всеобщее. Австралийцы, убив врага, отрезают у него большой палец правой руки, чтобы его душа не могла метать призрачное копье, попадание которого в живого человека может привести к болезням и смерти [227]. В Китае родственники осужденного на смертную казнь дают большие деньги судебным чиновникам, чтобы отсечение головы было заменено повешением или расстрелом, то есть чтобы душа после смерти казнимого сохранила все свои части в единстве. Желая предупредить самоубийства среди нещадно эксплуатируемых рабов, американские плантаторы обезображивали трупы самоубийц, удерживая этим живых от решительного шага. Негрырабы страшились, что после смерти их души навсегда сохранят увечья. Душа-панян имеет определенный, но очень незначительный вес. С одной стороны под ней даже травинка не гнется, с другой, душа, положенная на землю, ясно отпечатывается. В 1962 г. А. В. Смоляк спрашивала старого нанайца П. В. Caлданга каким образом шаман отыскивает черта, утащившего душу больного? Ответ был следующий: – По следу. Черт нес душу; несколько раз садился отдыхать, клал душу на землю, а на ней отпечатывались все особенности, все физические недостатки больного (короткая нога, отсутствие пальца на ноге, руке и т. п.), по этому следу и шел шаман. Так же говорили и другие старики ульчи» [228]. В средневековой Западной Европе было распространено убеждение, что вес души – 3-4 унции. Рассказывали об умерших матерях, которые по ночам приходили кормить грудью своих маленьких детей. На кровати после этого оставался их след. «Душа бледна, нежна, ее нельзя схватить» – объясняли гренландские эскимосыинуиты миссионерам. И, однако, эта душа достаточно материальна, чтобы испытывать затруднение перед материальными преградами. У многих народов в самых различных концах земли существует уверенность, что в гробу умершего надо оставлять отверстие, дабы душа могла свободно выходить из гроба в большой мир. Так, в частности, поступают североамериканские индейцы – ирокезы и поволжские марийцы. Да и у восточных славян по сей день сохраняется обычай открывать окна в доме только что умершего человека, дабы душа могла свободно отправиться в свои странствования. Широко распространены также мнения, что душа не может перейти через воду. У бирманских каренов поэтому через ручьи протягивают нити – мосты для душ. По представлениям нанайцев душа-панян может произвольно менять свои размеры, то она ростом с человека, то – около метра, то с мошку – «дунешь – улетит». Молодые нанайские вдовы, выходя из дома на улицу, трясли подол платья – считалось, что к нему могла прицепиться душа умершего мужа, которой будет неприятно, если женщина идет на любовное свидание «с другим». Обиженная душа могла наслать болезни на «изменницу». Вдовы этого боялись и предпочитали оставить ревнивую душу дома. Напротив, свекрови внимательно следили, чтобы овдовевшие невестки не трясли подол, уходя из дома и даже нашивали на платье колокольчики, дабы душа всегда знала, где находится женщина. Только когда через год после смерти панян удалялась навсегда в потусторонний мир, вдове можно было думать о новом замужестве. До этого в общественном мнении нанайцев ее любовная связь рассматривалась как прелюбодеяние и осуждалась. Именно панян после смерти человека сохраняла какое-то подобие личной, сознательной жизни [229]. Следует иметь в виду, что если для большинства нанайцев все эти качества имела одна душа – панян, то некоторые особо знающие шаманы и старики, говорили, что душ таких несколько. Но рассказы об этом отличались путанностью. Видимо, более тонкие различения душ в среде современных нанайцев забылись. Однако этнографический материал свидетельствует о явлении полипсихизма у многих неписьменных народов. У индейцев дакота, по сообщению французского миссионера начала XVIII пека Шарлевуа, существует мнение, что одна душа остается после смерти в теле, вторая – в его селении, третья отлетает в воздух, четвертая отправляется в страну духов. Карены, кроме ответственной за прижизненные поступки нравственной части души – тхах, знают еще двух личных жизненных духов – ла и кела [230].У индийских гондов также существует вера в четыре души. Древние римляне полагали, что после смерти плоть скроет земля, тень будет витать вокруг могилы, Орк (потусторонний мир) примет манов, а дух вознесется к звездам. Полипсихизм – очень характерный момент религиозности неписьменных народов. В принципе, и в высоких религиях иногда имеется память о многих составляющих человека душах. Но все они настолько объеденены личностью человека, его богоподобной сущностью, что утрачивают особливую свою значительность. Древняя, читаемая уже в египетских текстах III тысячелетия до Р. Х., но присутствовавшая, по всей видимости, и много раньше, в доистории идея, что человек – образ Божий [Мерикара, 132], не позволяла человеку распасться на множество душ. Сколько бы энергий не сосуществовали в человеке, он оставался их хозяином и средоточием. Живая вера в единого Творца и Держателя мира делала и верующего таким же единством для сил, пребывающих в нем. Напротив, там, где Творец всяческих «выносился за скобки» сознания и ум погружался в стихию бесчисленных духов, человек также терял присущую ему цельность, его энергии обретали несвойственную ранее самостоятельность, персональность. Начинали «бродить, где хотели». Отсюда – актуальный полипсихизм практических всех неписьменных народов. Нанайцы не потому только путались в счислении душ, что семидесятилетний период атеистической пропаганды коммунистической эпохи порядком «проветрил» их головы, но и потому еще, что ни предание, ни живой опыт, полученный шаманом в камлании, не позволяют сосчитать человеческие энергии. Коль они не центрованы личностью, число таких энергий – «легион». «В психологии бессознательного, – указывал Карл Густав Юнг, – существует положение, согласно которому любая относительно самостоятельная часть души имеет личностный характер, то есть она сразу же персонифицируется, как только ей предоставлается возможность для самовыражения… Там, где проецируется самостоятельная часть души, возникает невидимая персона» [231]. ЧЕЛОВЕК- БОГ ИЛИ ЗВЕРЬ? Впрочем, знание о человеке, как об образе Божием не вовсе отсутствует у неписьменных народов. Но, подобно представлению о Самом Боге-Творце, – это смутное припоминание, а не напряженно переживаемая реальность. Нигерийские ибо и племена Дагомеи, народы, стоявшие на пороге государственности ко времени начала колониальной экспансии в Экваториальной Африке, называли Бога-Творца и человеческую душу одним и тем же словом – Маву (Дагомея), Чукуву (ибо) – «так как душа от Бога вышла». Фоны Дагомеи поясняют, что человеческий дух сэ составляет частицу Маву, великого духа вселенной [232]. Одна из четырех душ гонда идет после смерти к великому Богу Бура. Нанайцы также объясняли А. Смоляк, что кроме уксуки и панян, человек имеет еще и эрген. «В представлениях нанайцев Амура эргени и панян – неадекватные понятия» – поясняет ученый [233]. Филолог Н. Б. Киле, сам по происхождению нанаец, объяснял: «Человек мира земного помимо эргэн имеет еще панян (дословно – тень). Это – душа земного человека… Эргэн же скорее не душа, а жизненная сила человека. Душой человека является лишь панян» [234]. Не следует, однако, спешить с выводом о тождественности понятия эрген, категории дух, пневма платонизма и христианства. Как вы помните, нанайцы часто называли Высшее Существо Боа Эндури – небесный дух. «Но, – добавляли они, – духи эндур имеются у всех людей, животных, деревьев. Когда умирает существо, душа отправляется к своему эндур» [235]. Эндур – эрген, а это понятие скорее всего тождественное, указывает не на подобие человека Богу, но скорее на то, что, созданный подобно всему прочему тварному миру, человек содержит в себе эту энергию творения, креативный импульс, слово, которым именно он был создан, то, что в письменных традициях часто называют «истинным именем», которым как бы позвал Бог свое творение из небытия в бытие. Такой дух, понятно, есть у всего созданного, и у животных, и у деревьев. Только упоминание, что «Боа Эндури как человек» является чуть заметным следом особенности человека, его богоподобности, схранившимся в верованиях сегодняшних нанайцев. Каким-то уголком религиозной памяти нанайцы сознают, что человек подобен Богу, но много яснее убеждены они в ином. В том, что человек тождествен всему тварному миру, имеет теснейшую связь и подобие со всем прочим творением. Различие между миром и человеком почти стерто, его уникальная особенность забыта. «Душа – панян имеется, по мнению многих [нанайцев], не только у людей, но и у медведя, у тигра, иногда говорят, что и у других животных», – указывает А. Смоляк [236]. «Камчадалы, – писал исследователь Камчатки Стеллер в конце XVIII века, – верят, что каждое живое существо, даже мошка будут жить в подземном мире». Практически все североамериканские индейцы были убеждены, что каждое животное имеет свою душу, и каждая душа – будущую жизнь. Гренландцы думают, что душу больного человека колдун может заменить здоровой душой зайца или оленя – и тогда человек исцелится – сообщает со ссылкой на Крантца Э. Тайлор [237]. В северном полушарии, как в Старом, так и в Новом Свете повсюду распространено почитание медведя. Медвежьи праздники, на которых посвященные вкушают мясо этого зверя, правильным образом принесенного в жертву, – составляют главный нерв религиозной жизни многих народов. Медведь повсюду именуется братом, отцом человека. Он может превращаться в человека, а шаман – в медведя. Предания о сожительстве медведя с женщиной (то есть о единстве брачном, когда между мужем и женой происходит обмен качествами) во множестве имеются, даже среди русских (см. например, рассказ И. Бунина «Железная шерсть»), тем более обычны они среди туземных народов Сибири. Шведский ученый Карл-Мартин Эдсман сообщает, что в Скандинавии и Карелии широко распространено предание о супружестве женщины и медведя, который затем соглашается на уговоры брата своей жены и добровольно приносится в жертву, перед тем сообщая во всех подробностях тот ритуал, которым, должно быть, обставлено это и все последующие аналогичные жертвоприношения [238]. У тунгусских народов от брака медведя и женщины рождаются духи огня, то есть опять подчеркивается жертвенный характер этого союза. От участников медвежьего праздника требовалось полное половое воздержание в течение нескольких дней, ему сопутствовали очистительные обряды. Кости принесенного в жертву животного нельзя было раскалывать. Саамы, например, их тщательно собирали и предавали земле, отрывая могилы, подобные человеческим. Черепа нередко ставили на столбы посреди деревни или в лесу. Глаза, которые ни в коем случае нельзя было повреждать, именовались у тунгусов осикта – звезды. Они на специальной травяной подстилке относились в лес и располагались на вершине дерева так, чтобы их осветили первые лучи утреннего солнца [239]. Повсеместны верования, что медведь добровольно отдается людям для жертвы. И все же саамы на всякий случай называли себя англичанами, шведами и немцами, когда свежевали медведя, чтобы ввести зверя в заблуждение относительно происхождения охотников. Коряки и ненцы с той же целью свежевали медведя русским ножом, уверяя, что его убили русские. Почти безусловно, что эти древние обряды восходят к палеолитическим культам, о которых рассказывалось в первых лекциях. Однако теперь важнейшей представляется идея о возможности обмена душами между зверем и человеком. Смысл жертвы понимается плохо, а вот родство медведя и пламени утверждается решительно. Очень много черт роднит этот культ медведя с почитанием «предков-создателей» у австралийцев, с тотемными обычаями североамериканских индейцев, где медвежий культ почему-то оказался почти вытесненным (хотя следы его замечают ученые) культами волка, россомахи, лосося. Во всех этих традициях между животным и человеком стерта непреодолимая грань. Отсюда – оборотничество. Превращение зверей в людей и наоборот. Легенды об оборотничестве повсеместны. Причем если превращения в медведя или белого северного оленя оцениваются скорее положительно, чем отрицательно, то превращения в волка – животное смерти – повсюду вызывают ужас. Вервольфы еще совсем недавно даже в европейском сознании оставались частью реального мира. Парламент Франш-Конте (Франция) в 1573 году издал закон об истреблении оборотней. Тем более распространены подобные предания за пределами Европы. В Индии индуисты верят, что колдуны диких племен гаро и гондов запросто могут принимать облик тигров. В Малайе колдун превращается в тигра на глазах своей жертвы перед решительным прыжком. В Южной Америке та же мрачная слава окружает ягуара, в Африке – львов, гиен, леопардов. Напротив, слон вызывает такое же почтение среди народов Экваториальной Африки, как медведь – у обитателей высоких широт Евразии. Причина этих повсеместных убеждений в том, что, отказав человеку, самому себе, в особой, богоподобной сущности, точнее, вместе с Самим Богом «вынеся за скобки» саму эту сущность, внеисторический человек уничтожил принципиальное свое отличие от всего творения и потому слился с ним в тотемизме и оборотничестве. Человек сохранил присущую всему живому душу – аниму, но забыл о духе, пребывающем в нем. Его душа поэтому, свободно странствуя по миру, может входить в животных и даже в растения. Рубят особое дерево (морсо), с которым сроднилась душа, верят нанайцы, – и человек умирает. ЗЕРКАЛО ВМЕСТО ИНОБЫТИЯ Пожалуй, нет области веры более консервативной, нежели область смерти, погребения и заупокойных представлений. Человек имеет достаточно опыта повседневной жизни, чтобы подвергать пересмотру убеждения, с ней связанные. Особенно охотно идем мы на соглашения с совестью в нравственной сфере, где сознание греха мешает человеку свободно реализовывать свои желания. Смерть и посмертное существование, напротив, находится по ту сторону всех наших земных устремлений. Только в эпохи напряженного искания вечности потусторонний мир влияет решительно на поведение живых, предпочитающих в иные времена не обременять себя памятованием о нем. Первым признаком угасающей веры является «забвение Запада», великой страны, гражданами кторой всем нам без исключения предстоит рано или поздно стать. Но, имея возможность изгнать смерть из памяти, человек никак не может вовсе уничтожить ее. Люди продолжают умирать. И «на всякий случай», «по привычке», «потому что так всегда делали», равнодушные к вечной жизни общества сохраняют заупокойные обряды далекого прошлого. Мало кто может объяснить ныне, почему покойника выносят из дома «вперед ногами», почему завешивают зеркала в доме, где он жил, почему начинают поминки с блинов, а между тем все эти древние обычаи соблюдаются. Соблюдение обычаев мира мертвых не очень обременительно, о том, насколько важны они для самого усопшего, мы не ведаем и потому на всякий случай предпочитаем хранить традицию. Внеисторические народы в этом подобны современным европейцам. Многие доисторические ритуалы сохраняются, но смысл их забыт или полностью перетолкован. Даже такие общепринятые обычаи, как, например, омовение тела или его погребение в земле, как правило, убедительно не объясняются. Тайна смерти, вопрос «почему мы умираем?» встает перед любым человеком. Ребенок, только начав сознавать себя, задает его родителям. Из опыта внешней жизни мы прекрасно знаем, что умрем, и все же, в сокровенной глубине своего «я», переживаем собственное бессмертие. Эта двойственность восприятия характерна для любого человека, она – часть его естества. «Примитивные» народы ощущают бремя смерти так же, как и самые развитые. Но если для нас смерть «естественна», хотя и ужасна, для большинства дикарей она – противоестественна. Большинство австралийских аборигенов уверены, что каждая смерть наступает в результате колдовства. Даже если человек погибает на поле боя, это происходит потому, что его околдовали, а смертельный удар нанесен заколдованным оружием. От такого же колдовства погибли первые люди, а иногда полагают, что и духи творцы – тотемы [240]. Преданий о том, почему смерть вошла в мир – множество [241]. Это может быть и оплошность человека, и распря богов и нравственный проступок, за который боги покарали людей. Очень широко распространены предания, что когда-то люди, подобно змеям, сбрасывали старую кожу и омолаживались, не умирая, но потом по какой-то причине они прекратили так делать. Однако все бесчисленное многообразие мифов о смерти согласно в одном – когда-то смерти не было и ее приход в мир противоестествен. Но коль смерть все же присутствует в мире, с ней приходится считаться. Среди внеисторических народов очень немногие равнодушны к своим умершим. Может быть, таких племен и вовсе нет, а проявлением равнодушия антропологи ошибочно считали оставление тела на воздухе для скорейшего освобождения скелета о мягких тканей. Такие «выставления» умерших – обычай распространенный, но за этим всегда следует та или иная форма вторичного захоронения. Если формы захоронения весьма варьируются среди неписьменных народов, то представления, связанные с миром мертвых и с участью умерших, оказываются достаточно сходными. Рассмотрим, в качестве примера нанайский похоронный ритуал. Считалось, что после смерти душа тотчас покидала тело и отправлялась путешествовать по тем местам, где человек бывал при жизни. Возвращаясь в день похорон, душа садилась в стороне и наблюдала за происходящим, видела хлопоты плачущих родных, но не понимала, что происходит. Подходила к ним, толкала их, говорила: «я жива», но ее не слышали. Она замечала, что сидит на травинке, а та под нею но гнется. Тогда душа понимала – «я ведь умерла» и плакала. Она отправлялась в загробный мир буни, но ослабев, шла тихо, временами ползла. В лучшем случае она могла добраться до преддверия иного мира – алдан буни, где и поселялась в ветхом шалашике, страдая от холода и голода. Живые всячески старались сократить страдания умершего. «Сразу же после смерти человека около него ставили угощения, их непрерывно меняли, пока умерший был дома. Затем его «кормили», когда все собирались на кладбище». «Ответы стариков на вопрос, кормили ли они душу или тело, были неоднозначны; как правило, сейчас об этом задумываются очень редко. Все же в данном случае большинство склонялось к приоритету души» [242]. Мы помним, что пища помещается в могилы с глубочайшей древности. Ее находят уже в мустьерских среднепалеолитических захоронениях. Но тогда она, как мы предположили, означала жизнь – ест, следовательно живет. Старый образ сохраняется и теперь, но считается, что умерший, как и живой, должен есть постоянно, и потому перед ним меняют тарелки с лакомствами. Почему мы предполагаем различия в роли заупокойной пиши у неандертальцев Ле Мустье и современных нанайцев? Дело в том, что мустьерцы, безусловно, верили в телесное воскресение. Вся символика захоронения говорит об этом. А то, что это – первые известные захоронения в доистории, заставляет предположить, что неандертальцы сами изобрели символические формы обряда, и следовательно, ясно сознавали незримые прообразы тех образов, которые использовали (сон – пробуждение, пища – жизнь и т. п.). Нанайцы тоже хоронят своих умерших в земле, может быть вследствие доисторического обычая, может быть, восприняв эту форму от китайцев и русских (некоторые близкие к ним тунгусские племена и сейчас предпочитают выставлять тела умерших в таежной глуши). Но в воскресение телесное они не верят и потому похороны тела символически необъяснимы. Однако память о том, что пища – жизнь сохраняется и переосмысливается через образ «голодной души» покойного. Ульчи и нанайцы очень боятся, что умерший, вернее его панян, захочет взять с собой кого-нибудь из живых. Особенно оберегают от этого маленьких детей умершего и его молодую жену, а также других беременных женщин, так как «украсть душу зародыша особенно легко» [243]. Чтобы этого не случилось, женщины и дети перепоясываются куском рыбацкой сети или металлической цепочкой. У ульчей бытует особый обряд сирим пэгдэ*ву. Нитку привязывают к пальцу умершего и к его вдове или иному ближайшему родственнику, затем старуха палкой обрубает нить, приговаривая «один иди, меня не бери к умершим, меня забудь, я останусь». У тунгусов в XVIII веке после поминок говорили: «Теперь расстанемся, не возвращайся, быстрее отправляйся, не думай возвращаться. Вернешься – дети будут стонать» [244]. Очень сходные обычаи существуют и у иных народов. Л. Варнер повествует, например, об обычае аборигенов Арнхемланда (Австралия) затягивать песнь тотемного клана, когда умирающий еще способен подпевать. С песней на устах он умирает, а близкие поют все громче. «Если мы не будем петь, – объясняли родственники исследователю, – он может вернуться, так как он будет бояться, что злые духи (мокои)поймают его и утащат в лесные дебри, где обитают сами. Пусть лучше придут за ним его старые пращуры и духи-предки, возьмут его и прямиком отведут в то священное место, где дух-основатель вышел из вечности» [245]. Страх перед возвращением умершего, его неприкаянной голодной души – весьма велик. Не только заботой, но и этим страхом объясняют нанайцы тщательность соблюдения ими заупокойных ритуалов и частое кормление умершего. Ульчи ежедневно в течение недели после похорон приходят на могилу кормить умершего. Чтобы сохранить с умершим физическую связь к его косе или шапке перед зарыванием могилы привязывают нитку, другой конец которой привязан к дереву близ могилы. На дерево вешают берестяную коробочку, в которую кладут пищу. Кроме того, тут же у могилы разводят костер и бросают в него угощения. Потом ходят на могилу раз в месяц в течение года до больших поминок. Делают атау – ящичек, в который кладут еду и одежду умершего. Атау хранят у могилы в шалашике, потом – в амбаре. Атау скорее всего ставится для «телесной души» уксуки, хотя об этом нижнеамурские племена уже ясно не помнят. Но с панян поступают они иначе. Даже сильная панян не могла сама добраться до буни, она или изнемогала по дороге, или влачила жалкое существование в алдан буни, или вовсе возвращалась. Когда после похорон шамай камлал на могиле, он всегда спрашивал «ты здесь?» и если слышал ответ «я здесь», приглашал панян вернуться в дом и вселиться в специально вырезанную деревянную фигурку панё. Если же души на могиле не было, то шаман отправлялся за ней в потусторонний путь, находил ее, опознавал и приводил назад, домой. Дабы шаман не ошибся и не привел «чужую душу», происходил обряд опознания. Обряжая умершего перед похоронами, родственники прятали в его одежду самогдан – цветные лоскутки, монеты, камешки. Все это хранилось в тайне. Шаман, найдя душу, начинал вытаскивать самогдан, и если они совпадали, то душа была своя и ее можно возвращать в дом. Таким образом, нанайцы не сомневались не только в материальности панё, но и в материальности одежд, в которые обрядили тело и двойники которых облекают панё. На одежду покойного на коленях нашивали даже несколько слоев ткани, так как панё, если устанет, будет на коленях по дороге ползти. Наконец, поскольку обладатель панё умер, то и сама она считалась больной. Прежде чем вернуть душу в дом шаман «лечил и оживлял» ее. Для этого перед домом умершего устраивают сироча – обтянутые тканью, парусиной, вертикально поставленные шесты, образующие подобие пирамиды. Землю в сироча устилают циновками, на которые так раскладывают одежду умершего, что она имитирует лежащее в одежде тело. На каждый сустав, на голову, печень, сердце шаман возлагает по одному из девяти камушков. Положив каждый камень – тавогда, троекратно камлает над ним, чтобы камень оживил данный орган. Затем полуметровым жгутом сухой травы – посохом богдо, шаман «чистил» грудь и горло души, приговаривая: «Надо тебе помогать, чтобы мы были спокойны, чистим тебя богдо, разных гадов, кровь из горла вычищаем, будет у тебя чистое дыхание». Затем шаман призывал птиц иного мира, сидящих на девяти ветвях мирового древа, и они также «чистят» душу, после чего «чистым горлом» душа могла говорить, и действительно слышался тихий голос. После этого в течение года, пока душа живет в доме, родственники могут беседовать с ней [246]. В этих обрядах есть много древних, архаических черт, которые указывают, что когда-то действия осуществлялись не над душой, но над телом покойного. Это были элементы похоронных ритуалов, призванных воскресить тело умершего в небесном мире. И древнеегипетский и ведический заупокойные обряды, о которых мы еще будем говорить, поразительно напоминают нанайские «поминки» – хэргэн, но в этих древнейших исторических традициях речь идет о теле. Его очищают, его восстанавливают «по суставам». В доисторических погребениях верхнего палеолита и неолига мы встречаем ту же символику «собирания тела». Но современные неписьменные народы не имеют веры в телесное воскресение, утратили ее, а сам заупокойный ритуал, из-за присущей ему консервативности, во многих чертах сохранился, будучи перенесенным на душу, которая в чистке и оживлении вряд ли нуждается. Однако вернемся к нанайскому обряду. Подобно всем духам, душа умершего нуждается в теле, и шаман возвращает ее в тело, но не в былое, преданное земле, ав панё – деревянную фигурку 12-15 см высотой, укрепленную на квадратной подставке. Поймав душу, опознав ее, почистив и оживив, шаман «вдувает» ее в панё (обряд пуксинг): «Теперь ты дома, будешь сидеть на своем месте, кушать». В фигурке даже делается специальное отверстие, куда время от времени вставляют раскуренную трубку покойного. Панё на год возвращает умершего в мир живых. Обряд этот проводят на седьмой после смерти день. Подобные же обряды возвращения умершего в дом имеются у многих сибирских народов. У ненцев, например, вдова делает куклу, одевает ее в одежды умершего мужа и спит с ней от полугода до трех лет. Перед фотографией умершего (в которой находится его душа), регулярно ставится в это время тарелка с едой. Приблизительно через год после смерти проводится главный заупокойный обряд нанайцев – каса. Смысл этого обряда – окончательные проводы умершего в буни. Каса могут проводить только самые сильные шаманы, которые есть далеко не в каждой деревне. Их так и именуют – касатысама. Обряд начинается со строительства итоана. Итоан строится из тонких жердей и в него помещают куклу, изображающую покойного и сделанную из его одежды. Сверху итоан покрывается куском парусины. В итоане совершается важное действо – шаман «пересаживает» душу умершего из панё в куклу-мугдэ. При этом в камлании итоан предстает не хрупким временным сооружением, но мощнейшей «вечной» постройкой: Обнимешь – становится в семь обхватов. Возьмешь – семь обхватов! Крыша – из китовой кожи, Стропила – из китовых ребер, Жир лампы – из китового сала [247]. Эта постройка очень напоминает гробницы мегалита и верхнего палеолита. Восьмиобхватные стволы в качестве бревен, кожа, кости и жир огромного морского зверя – как строительный материал и топливо для лампады. А на самом деле кита в нанайском итоане и близко не видно и никакая лампада там не зажигается. Подобно тому, как ориньякские охотники клали в могилы кости и черепа мамонта, покрывали склепы лопатками и шкурами этого мощного зверя, жители тихоокеанских прибрежий, видимо, в доисторические времена употребляли китовую шкуру и кости. Для них кит являлся образом высшего Бога, принимающего под Свою защиту умершего. Горевший в лампаде китовый жир символизировал восхождение умершего в горняя, к Тому существу, земным образом Которого кит являлся. Этот последний обычай возжигания жира, взятого от принесенного в жертву животного, символизирующего Творца, очень вероятно был в доисторические времена повсеместен. Но следы его археологическими методами практически необнаруживаемы. Ныне только шаманская песнь напоминает о древнейшем ритуале. Примечательно, что из дома в итоан панё переносил обязательно чужеродец, а родственники плакали и делали вид, что хотят помешать ему. Шаман уговаривал душу не плакать и быть спокойной. Сами нанайцы объясняют обычай тем, что душа может сердиться на родных, избавляющихся от нее, и потому поручают вынос чужаку. Подобный обычай распространен широко. Гуди [248], например, сообщает, что среди говорящих на языке вольта племен Нигера «похороны никогда не осуществляются близкими покойного», но соседями, которые не должны принадлежать к тому же роду или клану». Действительный смысл этих установлений неясен, но они, по всей видимости, имеют ту же природу, что и матримониальные табу внутри клана. Антропологи склонны объяснять последние стремлением исключить генетически неблагоприятные кровосмешения, но, возможно, причина табу менее биологична, о чем говорит аналогичная практика заупокойного обряда. Несколько дней душа жила в итоане в кукле мугдэ, а шаман ежедневно камлал для нее. Наконец все были готовы к главному действу – окончательному уходу души в буни. Перед западным входом в итоан воздвигали столб – дарин дани с прибитыми на разной высоте поперечными планками, видимо, символизировавшими небесные уровни. Во всем облачении шаман с луком и стрелами в руках поднимался по столбу, а затем незримо воспарял в поднебесье вместе с духом-помощником – птицей коори. Считается, что он так обозревал путь в буни и заодно узнавал полезные для общества факты – когда ждать половодья, где кочует соболь и т. п. Затем шаман спускался, запрягал свои невидимые санинарты, сажал в них мугдэ, и незримые же ездовые животные мчали седоков в иной мир. Перед окончательным отбытием душа прощалась с живыми родственниками, ей опять чистили горло, опять оживляли. Душа говорила «по-птичьи», куковала – кэку, шаман, камлая, переводил ее речь. Когда прощанье оканчивалось, шаманские нарты устремлялись в иной мир. Сначала путь шел по земле, по знакомым, всем родственникам, сопкам, рекам, таежным увалам. Потом путешественники проходили сквозь узкую дыру в земле и попадали в инобытие [249]. Отметим, что хотя буни располагался на западе «под землей», с дарин дани шаман для чего-то воспарял подобно орлу в поднебесье и лишь спустившись, вез души «куда следует». Указание наилучших мест будущей охоты – почти наверняка вторичная рационализация этого акта камлания. Смысл его, думается, в ином – небесный полет – это воспоминание былого пути умершего к Небесному Отцу, который ясно виден в древнейших письменных традициях III тысячелетия до Р. Х. и в доисторических погребениях. Но с забвением Отца потерял смысл и путь в вершины неба. Характерно, что нанайцы не имеют единого мнения относительно смысла обряда каса. «Одни считали, что все действия совершались с душой умершего… Другие – что с родными прощался сам «оживший покойник» [250]. Весь обряд каса очень напоминает ритуалы вторичного погребения, сохранившиеся кое-где до настоящего времени (например, среди мерина Мадагаскара [251]). А поскольку нанайцы давно уже не практикуют эксгумацию, они производят все обряды каса с куклой покойного и колеблются относительно возможности его полносоставного оживления, что когда-то являлось главным смыслом заупокойного ритуала. В огромном костре перед итоаном сжигаются все вещи умершего «нужные ему в иной жизни». Опять же – предание огню – воспоминание о небесном местопребывании души. Жертвы в подземный мир приносятся иначе, например возлияниями на землю (срав. греческий культ героя). У самых архаичных племен сохранилась лучшая память о небесном пути умерших. Австралийцы кулин полагают, что души поднимаются по лучам заходящего солнца [252]. Племена долины Гербертривер верят, что умершие поднимаются в иной мир по Млечному пути [253]. Но многие более «развитые» народы Океании и Америки считают, что на небо вдут только герои и колдуны. Остальные души остаются бродить по земле, или отправляются на земли запада, иногда с очень четкой топографической привязкой – аборигены Арнхема отводят душам своих умерших соплеменников острова Торресова пролива [254]. Наконец, местообиталищем простых душ может быть и преисподняя. У новозеландских маори только избранные вожди поднимаются на небо. Все прочие уходят «за океан». У нанайцев такое посмертное неравноправие почти отсутствует. В подземный мир – буни идут все без изъятия – и шаманы и нешаманы. Только для древних героев делается исключение. Устроитель мира Хадау, застреливший «лишние солнца», испепелявшие на земле все живое, и его жена Мямелди живут на высшем, девятом небе. Социальная сегрегация заупокойных миров вряд ли существовала в доистории. Это благоприобретенное верование. Оно оставляет за лучшими то право, которым раньше пользовались все. Это как бы монархия наизнанку. Вскоре мы узнаем, что древний царь-спаситель спасал подданных в его собственной плоти, являлся ритуальным посредником при восхождении людей в небесный мир. Вождь и шаман, служа людям здесь, вовсе не склонны обременять себя соплеменниками в загробных странствиях. Они уходят одни, пользуясь своей магической силой и мощью посвящений. Но при забвении Бога преимущества небесного пути постепенно утрачиваются. Почему на небе лучше, чем на западе, в преисподней? И вот – память о небе остается только элементом камлания или исключительной судьбой древнего героя. Стремление к Небу угасает. Представления о том, что мир мертвых находится под землей, в «преисподней земли», возникли, скорее всего, как переосмысление древнейшего похоронного обычая. Мы помним, что предание тела умершего земле было характерно уже для неандертальцев (мустьерские погребения около 100 тысяч лет назад), но тогда они, судя по всей символической структуре захоронения, имели совершенно ясный смысл: тело-земля превращается в землю, в земную материнскую утробу, дабы «в день оный» возродиться, вернуться к жизни от сна смерти. И если среднепалеолитические захоронения лишь намекают на веру в небесное воскресение, то верхнепалеолитические «фрески» и мегалитические курганы свидетельствуют о надежде людей на посмертный небесный путь с полной безусловностью. Подобно материнской утробе, земля – только временное прибежище умершего – его будущая жизнь связана не с преисподней земли, а с сияющим божественным небом. Однако для обыденного религиозного сознания мир могилы мог связываться с потусторонним миром мертвых, и чем больше забывают люди о Небе, тем решительней они посмертное существование соединяют с подземным бытием. «Преисподняя» становится обиталищем мертвых по той простой причине, что тела опускают в глубины могилы. Первоначальная символика погребения при этом забывается. Но если для исторических народов Небо остается желанной целью, то у народов неисторических оно очень часто совершенно пренебрегается. Умершие уходят под землю. Нанайцы и ульчи при этом уверены, что «подземный мир» во всем сходен с земным, разве что побогаче зверем и рыбой «Буни расположен на западе под землей, умершие живут там так же, как и на земле, – в домах, рыбачат в Амуре, охотятся в тайге» [255]. Души каждого рода обитают отдельно в своем подземном мире. Многие респоденты рассказывали А. Смоляк, что в буни нет никакого бога и порядок там поддерживают умершие старцы. Для североамериканских индейцев мир мертвых также не отличим качественно от мира живых. Избегая прямого слова «он умер», индейцы обычно говорят «он ушел в места, богатые дичью», «отправился в поля большой охоты». Не в состоянии отказаться, подобно многим из современных европейцев, от инобытия как такового, неписьменные народы в своем обезбоженном мире упрощают тот свет до простого отражения «света этого». Ведь именно Творец мира делает инобытие действительно иным: здесь мы живем среди сотворенных сущностей, там оказываемся перед сущностью творящей, в абсолютном бытии Которой все наши мысли, слова и действия не могут не явить свой подлинный смысл соответствия или несоответствия замыслу Творца. Забывая о Творце, люди и тот мир лишают его инаковости, а следовательно, он становится лишь зеркалом, отражением посюсторонней повседневности. «Добравшись до входа в буни, шаман останавливается, пропуская вперед души (умерших, которых он привез с касы-поминок. – А. З.), смотрит что там, за «порогом», видит души усопших родных, живущих как и на земле в обычных домах обычных деревень, рыбачащих в реке…» [256]. Задерживаться в буни шаману, однако, опасно. Хотя мертвые встречали его с распростертыми объятиями, распрашивали об оставшихся на земле родственниках, следовало немедленно уходить. Иначе буни мог поглотить шамана навсегда. Более того, отправляясь в буни шаман всегда прикидывался не собой. Он называл иное имя, говорил, что происходит из другого рода, проникал в буни «замаскировавшись» (это слово любят употреблять теперь нанайцы) «под черта» или «какого-нибудь зверя». Надо было обманывать и духов инобытия и души обитающих в буни умерших. Иначе – смерть. А умирать шаман не хотел. Как бы ни был хорош тот мир, как бы ни кипели там многорыбием воды, подлинным миром был этот, земной мир. И оседлав духа-помощника – птицу коори, в сопровождении иных духов-помощников шаман в полубессознательном состоянии возвращался на землю. Обряд каса – очень труден даже для опытнейшего колдуна. Предпочтение земного мира потустороннему – общее явление у неписьменных народов, роднящее их с нами, современными европейцами, и существенно отличающее от большинства народов религиозных цивилизаций. Мысль о том, что земная жизнь – сон, а смерть – пробуждение отчасти может быть понята самыми архаичными дикарями, типа аборигенов Центральной и Южной Австралии или обитателей Терра дель Фуего (Огненной Земли), для которых смерть – возвращение к вечному духу создателю, но никак не более «развитыми» неписьменными народами. Однако «дурная бесконечность» лишенного Бога инобытия не может не смущать своей бессмысленностью. Неписьменные народы, делая иной мир отражением земного, вынуждены вносить в него характерные земные явления – старения и смерти. Да, в буни тоже стареют и умирают, как и на земле. А что потом? Умерев в буни, панян переходит в потусторонний мир потустороннего мира, именуемый нанайцами холиочоа. Но и там душа не остается навечно. Вечность – категория, хорошо понимаемая австралийцами – вообще остается вне умственных возможностей развитых племен, для которых единственно возможен повседневный опыт конечности любого процесса, имеющего начало. В холиочоа душа в конце концов тоже дряхлеет и умирает, чтобы возродиться на земле в виде травы, цветка, животного или человека – объясняли А. Смоляк нанайцы селения Дада [257]. Трудно сказать, исконные ли это верования или переосмысленная, лишенная нравственного стержня, идея буддийской сансары (метемпсихоза), заимствованная у китайцев и монголов. У другого тунгусского народа, у эвенков, вечное возвращение души меньше напоминает южноазиатскую сансару. В истоках родовой реки, текущей в наш мир из инобытия, вечно пребывает одна из душ человека – маин. Туда же после смерти человека шаман отвозит и личную душу – панян (ханян у эвенков). Соединяясь с маин, ханян превращается в оми – душу-птичку, возвращается на землю и воплощается при зачатии сородича. Представления о маин весьма напоминают духов-создателей (тотемных предков) австралийских аборигенов. Типологически и тотемный предок, и родовая душа маин выполняют одну и ту же роль, позволяя сохранить веру в инобытие, исключив веру в Бога-Творца. Вместо Бога источником жизни индивидуальной становится жизнь родовая, персонализированная в тотеме, а Творец при этом беспрепятственно может быть «вынесен за скобки» [258]. «После смерти перерождение вернет человека, как надеются, назад в его былой род, – пишет знаток африканских верований Джонатан Парриндер [259], – и главное, он вновь сменит холодный мир теней на теплую, залитую солнечным светом землю». Вечное возвращение на землю личной души умершего – фактически является главным эсхатологическим упованием очень многих неписьменных народов. Но земная жизнь все же далека от совершенства. Ее сопровождают бесчисленные тяготы, болезни, заботы. Иной формой преодоления смерти, нежели вечное возвращение на землю может быть постоянное возрождение в мире духов. «Когда они замечают, что постарели, они сбрасывают свою морщинистую дряблую кожу и появляются с телом, покрытым гладкой кожей, с черными кудрями, здоровыми зубами, полные сил. Таким образом, жизнь их состоит в вечном возобновлении, омоложении – вкупе со всем тем, что дает молодость от любви и наслаждений» – пишет Бронислав Малиновский о заупокойных представлениях островитян СевероЗападной Меланезии [260]. Как можно заметить, меланезийский вариант – лишь улучшенная форма варианта тунгусского или африканского. Иной жизни, иного наслаждения, кроме данного в их земном опыте, неписьменные народы почти никогда не ведают. И потому инобытие становится для них зеркалом, обращенным к земному миру. «Даже небесный мир Божий, если и имеется (в африканских религиях. – А. З.), является ничем иным, как расширенной и улучшенной копией нынешней земной жизни» – указывает Джонатан Парриндер [261]. Но попасть в этот давно знакомый и уютный «мир иной» не так-то просто. Сама по себе душа не имеет сил до него добраться и, поблуждав тропами инобытия, или затеряется, так и не достигнув желанной цели, страдая от холода, голода и жажды, или вернется назад, в мир живых, превратившись в зловредного духа. Помочь душе может только шаман, его духи-помощники, его магические знания. Это он провожает душу и с удобством доставляет ее в потусторонний мир. В Индонезии он пользуется для этого лодкой, в Сибири – упряжными санями. Иногда, как, например, в Австралии, большое значение имеют прижизненные посвящения умершего. Только посвященный в таинственное общение с духомтотемом, окропивший, подчас собственной кровью, его земной образ-воплощение, может обрести в нем и с ним искомую вечность. Но и посвящения, и шаманская наука относятся к области знания. А вот иного, праведной жизни, нравственного земного существования, от усопшего почти никогда не требуется в религиозных представлениях неписьменных народов. Будущая жизнь души не зависит от земной жизни ее обладателя. Подробно рассказывая Анне Смоляк о своих заупокойных верованиях, нанайцы и ульчи ни словом не обмолвились о тех нравственных требованиях, исполнение которых открывает перед панян двери буни. И это не оплошность ученого или его респондентов. Таких требований действительно нет. Каждый, кого проводили в иной мир как надо и кто получил при жизни надлежащие посвящения, обязательно доберется до «полей большой охоты». «Никакие нравственные обстоятельства не влияют на успех в достижении мира мертвых и в присоединении к иным душам. Наказание за грехи отсутствует и единственное, что подвергается проверке, так это уровень посвящений. Если и имеются различия в посмертном бытии душ, то они всецело проистекают из тех ритуалов, в которые они вовлекались, и из тех религиозных познаний, которые они получили при жизни. Иными словами, посмертное существование зависит от степени их посвященности», – констатирует Мирча Элиаде [262] в книге «Австралийские религии», говоря не об одних только австралийцах, но и о иных неписьменных народах. «Одна из главнейших особенностей архаических представлений о смерти и посмертном существовании – это безразличие к нравственным ценностям. Представляется, что в этом отношении нравственность существенна исключительно для людей, пребывающих в воплощенном состоянии, но не существенна в состоянии посмертном, являющимся исключительно «духовной» формой бытия. Эта «духовная» форма в первую очередь чувствительна к силе ритуалов и к «спасительному знанию», приобретенному на земле живых». К этому в целом очень верному указанию виднейшего религиеведа есть, однако, что добавить. О том, что посмертный этический индифферентизм есть представление архаическое, то есть наидревнейшее, говорить следует с большой осторожностью. Мы не можем непосредственно судить о тех мотивах, которыми руководствовались ориньякские охотники, земледельцы Чатал Хююка или строители мегалитических комплексов, когда с невероятным тщанием и трудолюбием погребали останки своих умерших соплеменников. Считали ли они исполнение нравственного кодекса непременным условием достижения блаженной вечности, или, подобно сегодняшним нанайцам и австралийцам, полагались на посвящения и услуги опытных колдунов. Целый ряд косвенных свидетельств намекают на правильность первого ответа, на то, что суд совести, нравственный закон, был в те далекие времена важен в определении посмертной судьбы. Бог – не великий шаман, а творец мира, ждущий от своих созданий следования тем законам, на которых Он основал его. Эти-то законы и являются для нас в виде нравственных норм. Понятно, что если смерть есть путь от творения к Творцу, от земли к Небу, то на этом пути значение нравственной качественности не может не возрастать. Перед Совершенным, пред лицом Божиим не может быть ничего грешного, нечистого. Суд совести, великий посмертный суд – обязательное условие для вхождения в небесное бытие, приобщение к божественным качествам вечности и всемогущества. Если горяча и действенна вера в Небесного Отца, зовущего в свои обители земных чад своих, то в таком народе мы обязательно обнаружим и убеждение в потребности высоких нравственных достоинств для вхождения в эти горний жилища. Если же вера в Творца отсутствует или почти исчезла, то исчезает и посмертный нравственный суд. Чтобы войти в будущее, где Бога нет, не требуется исполненностъ божественного закона, ибо к чему исполнять закон Того, Кого все равно не чтишь, к Кому все равно не стремишься? Ворота нравственного закона ведут к Творцу этого закона, но если ты не чтишь Творца и не ищешь пути к Нему, то равнодушно проходишь мимо запечатанных ворот, но замечая их даже, держа путь в мир, где Бога как бы и нет. Если верно было наше предположение, что доисторические люди знали Бога Творца и напряженно стремились к Нему, то посмертный нравственный индифферентизм был им чужд. Как и в других случаях проверить это мы сможем, рассмотрев вскоре религиозные представления древнейших письменных цивилизаций, их отношение к смерти, суду и нравственному закону. Но, с другой стороны, если в современных неписьменных обществах мы встретим решительное и безусловное исполнение нравственных норм, то нам придется сказать, что нравственность земная имеет земное же происхождение и с алканием вечности никак не связано. Если же мы столкнемся с иным, с фактической слабостью чувства нравственного долга в среде неписьменных народов, то тогда наше предположение о влиянии вынесенности «Бога за скобки» и для судьбы этого мира получит подтверждение, а эсхатологический этический индифферентизм окажется явлением вторичным и приобретенным. НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ В РЕЛИГИЯХ НЕПИСЬМЕННЫХ НАРОДОВ Область нравственности столь же необъятна как и сам мир. Во многих обществах религиозные законы, определяющие существование человека, занимают многие тома. Но и общества нерелигиозные, например современные европейские, также основаны на законе, и законы эти также занимают подчас десятки томов. Имеется ли разница между законом религиозным и нерелигиозным по существу? Или же религиозный закон есть такая же точно регламентация социальной действительности, только основанная из-за примитивности древних на «вымышленном божественном авторитете», который в современном позитивном праве заменяется авторитетом самого закона, авторитетом народа, избранные представители которого утвердили эти законы, и, наконец, всеобщим сознанием того, что без законов общество погрузится в пучину анархии и произвола, деградирует и погибнет? И действительно, позволив убивать, безнаказанно присваивать чужое имущество, насиловать, общество разрушит само себя. И потому нет ни одного общества, где насилие или воровство не считалось бы преступлением, требующим наказания. Религиозные общества не отличимы тут от обществ современных нерелигиозных. Но есть области права, которые актуальны только в обществе религиозном и быстро отмирают по мере его секуляризации. Все то, что не приводит к ущемлению прав других – дозволено. Это, опять же, всеобщий принцип. Но вот права человека и формы их нарушения понимаются в различных обществах несходно. Возьмем пример. До самого конца прошлого столетия законы Российской Империи требовали смертной казни за скотоложество. Законы эти давным-давно не применялись, но они сохраняли свою юридическую силу. Почему? Потому что подобные же законы имелись в Ветхом Завете. А Пятикнижие иудейское тут вполне соответствовало большинству других древних религиозных уложений. Совокупление – превращение двух в «одну плоть», таинственное, но вполне реальное соединение. Совокупляющийся с животным становится одно целое с ним, то есть уже перестает быть вполне человеком. Равно и животное перестает быть вполне животным. Это – какие-то новые страшные существа. И потому скотоложец, как не человек, должен быть изгнан из среды народа или даже уничтожен, как извративший свою природу, а животное, с которым он соединялся, также должно быть убито. Но подобный закон ныне нигде в Европе не действует. Почему? Во-первых, позитивное право не признает идеи превращения двух существо в одно в результате брачного соединения. Ведь эта целокупность незримая, физически оба сохраняют свою автономность. В нее надо верить, а все, что касается веры, отвергается секулярным сознанием. Во-вторых, с точки зрения религиозной, содомит-скотоложец – не только не вполне человек, он еще и святотатец. Человек – образ Божий. Может ли образ Божий сливаться с образом звериным? Не есть ли это великое святотатство? А это вызывает следующую цепь рассуждений. Поскольку все люди произошли от единого предка, все являют собой опять же таинственное, но единство, то святотатец не себя только оскверняет и отвращает от Бога, но и портит всех людей, а в первую очередь своих близких, своих соплеменников. И потому он должен быть наказан, казнен именно этими сплеменниками, которые в самом акте казни демонстрируют, являют Богу, что они разрывают с казнимым узы родственной близости и потому надеются, что последствия его злодеяний не падут на их головы. Общество, члены которого не верят в Бога и в таинственное единство рода человеческого, в то, что грехи одного на других «нападают», такое общество, понятно, и не считает преступлением святотатство само по себе. Вот если святотатец оскорбил своим поведением религиозные чувства верующих, тогда он повинен перед этими людьми. А если он святотатствует втихомолку – то это личное его дело, оно никого не касается. Иными словами, позитивное право отличается от религиозного не тем, что первое наказывает действия, причиняющие ущерб другим, а второе – и себе самому. Это не так. Никакое религиозное право не накажет человека, если он, упав, сломал ногу или разорился на торговых операциях. Но сфера ущерба другим в религиозном обществе шире, а зависимость всех от всех разносторонней, чем в обществе нерелигиозном. В первую очередь из позитивного права вымываются нормы, связанные с отношениями, которые никому не приносят ущерба материального или морального из лиц, формально вовлеченных в «дело». Скажем, если мужчина пытается учинить над женщиной насилие и добиться от нее близости – это преступление. Но если женщина охотно идет на близость с мужчиной – преступления в том не усматривается. Эти действия женщины могут принести огорчения ее матери, мужу, сопернице, жене сближающегося с ней мужчины, – но все это неважно. В позитивном праве каждый человек автономен и свободен. Дольше других существовали нормы, определяющие права обманутой стороны при измене супружеской, так как тут могут быть вовлечены в дело дети, имущество, брачный контракт, но и в этой сфере позитивное право все больше и больше предпочитает воздерживаться от вмешательства. А уж судить юношу и девушку за добрачные интимные отношения сейчас в Европе и вовсе никому не придет в голову, хотя в Индии или на мусульманском Востоке такие отношения, будучи раскрытыми, скорее всего, обернутся общинным судом и гибелью Ромео и Джульетты. Потерявшую до брака невинность девушку у курдов Анатолии, как правило, убивает родной отец или старший брат, так как она «осквернила весь род». Варварство? Быть может. Но вполне религиозно объяснимое. Род ведь не только сиюминутная данность. Он протяжен во времени. Умершие предки нуждаются в молитвах и заупокойных жертвах, совершаемых потомками. Потомки – в благословении отцов. Только правильные «законные» отношения полов приводят к рождению достойных детей, которые будут возносить молитвы и молитвы которых «взойдут на слух Богу». Рожденные от неподобающих союзов ухудшают род, вызывают его духовную деградацию. В конечном счете, от такой деградации пострадают и умершие уже отцы и нерожденные еще дети. Род, как путеводитель к Богу, к вечности, не исполнит тогда своего назначения. Понятно, что там, где таких задач перед родом не ставится, эти ограничения свободы в получении удовольствий будут рассматриваться как излишние и отменяться. Это и произошло в Европе за последнее столетие-палтора. Секуляризованный европеец избавился от «средневековых предрассудков», «приводящих к закомплексованности». Религиозные общества Востока подражать ему в этом не спешат. Если гибнет закон, то род весь Погружается в беззаконье. С воцарением беззаконья Развращаются женщины рода; Когда женщины рода растлились, Наступает всех варн смешенье. Варн смешенье приводит к аду Весь тот род и губителей рода, Ибо падают в ад их предки Без воды и без жертвенных клецек. [Бхг. 1, 40-42] Эта индийская мудрость очень точно иллюстрирует логику религиозного права. Именно та область межличностных отношений, которая в современном праве не подлежит специальному регулированию, и отличает в наибольшей степени не только общества религиозные от современных европейских, но и от неписьменных магических. Рядом с деревнями кастовых индусов в Ассаме в горных селениях живут неписьменные народности гаро и нага. Брачно-семейные отношения индусов-ассамцев отличаются крайней строгостью. Но о гара и нага подобного сказать нельзя. У этих племен практикуется полная свобода добрачных и внебрачных отношений. Ритуальные законы воспрещают лишь кровосмешение. Этот запрет вообще характерен как эффективно исполняемая норма обычного права для практически всех неписьменных народов. Поэтому с пяти-семи лет дети не живут в семьях: мальчики переходят в специальные мужские дома, а девочки селятся у одиноких старых женщин. Мужской дом у нага – ариджу самое выдающееся сооружение в деревне. Здесь живут мальчики и юноши отдельно от семьи до вступления в брак, то есть до 20-25 лет. Днем они помогают родителям на полях, питаются от домашнего очага, но остальное время проводят в ариджу. Хотя обычно мужской дом считают средством избежать кровосмесительных связей, в действительности мужские дома напоминают функционально ученичество у кастовых индусов. И здесь, и там мальчики с пяти-семи лет и до женитьбы живут вне дома. Но у нага – среди сверстников, а у индусов – в семье учителя. В первом случае такая жизнь приводит к горизонтальной социализации, вовлеченности в сообщество сверстников-мужчин для дальнейшего встраивания в племенную жизнь, так как семья затрудняет вхождение в общество, отгораживая подростка стенами внутрисемейных связей. Поэтому эти связи принудительно рвутся и ребенок «дефамилизируется» в ариджу. У кастовых индусов ученичество (у буддистов Индокитая и Цейлона – временный уход в монастырь) служит достижению несколько иной цели. И тут необходимо разбить стены семейных связей, но не для социализации, а для спиритуализации подростка. Дом родителей слишком гармоничное целое, пронизанное токами душевной любви, чтобы научиться в нем алканию вечности. Домашняя религиозность легко подменяется благочестивым бытом. Чтобы юноша не довольствовался этим, а нашел подлинное общение с Абсолютом, и уходит он в дом учителя, у ног которого познает «священные истины ариев». Только получив эту «прививку вечности» может он стать домохозяином и правильно продолжить род. От молодежи нага никто решения таких высоких задач не требует. Потому и принципиально различно отношение к сфере интимных отношений во время ученичества. Важнейшим обетом индуистского ученика является обет полного полового воздержания. У обитателей ариджу иначе: «По мере того как мальчики взрослеют, их все больше начинают интересовать отношения с девушками… Пребывание в мужском доме не является препятствием для свободного общения с девушками. В сущности… в этих домах ночуют в основном мальчики младшего возраста, а старшие проводят ночи со своими избранницами. Что касается девушек ао (одно из племен нага. – А. З.), то в прошлом было принято, чтобы они ночевали небольшими группками (по двое или по трое) в пустующих домах одиноких старых женщин, которые готовы были предоставить им место. Здесь их по ночам навещали возлюбленные. Такое свободное общение молодежи всерьез не осуждалось традиционным обществом ао» [263]. У гаро Мегхалайи отношение к добрачным связям совершенно аналогично нага. Индийские исследователи не без удивления отмечают, что взрослые ни в малой степени не считают сексуальную жизнь чем-то таким, что надо скрывать от детей. «В присутствии малышей говорят о сексе столь же свободно, как если бы речь шла о солнечном свете или дожде. Чтобы унять непослушного мальчика ему могут пригрозить кастрацией» [264]. И за юношами, и за девушками родители не осуществляют никакого надзора. Стоит ли удивляться, что в таких обстоятельствах «половые связи начинаются с достижением зрелости» [265] просто как удовлетворение одной из функций организма. В соседнем индуистском обществе Ассама или мусульманском Бангладеш (область гаро расположена между ними) все это совершенно немыслимо. Конечно, и там ходят по деревням сплетни о супружеских изменах и добрачных связях, но если сплетни оказываются реальностью всегда наступает скорая и жестокая расплата. В 95 случаях из 100 сплетни так и остаются досужими пересудами, не имеющими под собой никаких оснований. Даже в крупном университетском городе Южной Азии почти никогда не встретишь целующуюся парочку. Публично демонстрировать свои чувства не принято и у супругов «так как сексуальная любовь не считается проявлением высокой духовности» [266]. Среди сингалов – древнего письменного народа, исповедующего буддизм, «женщины не любят признаваться, что вступили в брак по любви, во всяком случае показывают, что стесняются этого: традиционный брак, устроенный родителями, считается более приличным. Впрочем, женщине (по представлениям сингалов. – А. З.)вообще пристало быть стеснительной, особенно в том, что касается сексуальных отношений… Добрачные половые связи осуждаются; до недавнего времени строгий контроль родителей делал их почти невозможными. Теперь бывают исключения; такие пары впоследствии обычно женятся» [267]. Разводы среди сингалов очень редки. «У большинства африканских народов, – пишет знаток африканского обычного права Ирина Синицына, – супружеская неверность мужа (без отягчающих обстоятельств) поводом к разводу вообще не является. Речь идет лишь о неверности женщины. Как правило, в этом случае основанием признаются только неоднократные внебрачные связи или постоянная связь с другим мужчиной. Нарушение права коллектива на детородные функции жены и на ее труд в общине ставит под сомнение и брачный договор» [268]. Первоклассный знаток обычного права народов Танзании Г. Кори специально отмечал, что «неверность редко считалась основанием для развода и не признавалась причиной для прекращения супружеской жизни. Мужу просто уплачивалась компенсация» [269]. Предполагать, что внеисторические народы сохранили общий для всего человечества низкий уровень морали, утраченный народами историческими в процессе их «развития», нет никаких оснований. Как раз наоборот, подобно памяти о Боге-Творце, сохраняющейся «за скобками» повседневной религиозной практики дикарей, этические нормы известны повсеместно, хотя и не актуальны. «Добрачные связи молодежи всерьез не осуждаются, хотя и не одобряются, но «в конце концов ведь они молоды, что же тут поделаешь?»… Считается нежелательным, чтобы такая связь привела к рождению ребенка: девушка, имеющая ребенка, ценится меньше при выборе будущей жены. Но, собственно, девственность не обязательна: большинство молодых людей вступают в любовные связи до брака» [270]. Гаро понимают, что половая распущенность не является достоинством, «но что же тут поделаешь?» Народы, исповедующие теистические религии, предполагающие активную и живую связь с Богом, знают, что надо делать в таких случаях: «Девушку, утратившую до замужества девичью невинность, ждало всеобщее осуждение и неминуемая кара. «Не дай Бог, если невеста не окажется девушкой, – писал о курдах Мела Махмуд Баязиди, – это страшный позор. Невесту отправляют назад в дом отца и отбирают выплаченный калым, и родственники невесты убивают ее… Иногда бывает, что если невеста не девушка, то она, зная, что ее ждет, во время приготовлений к свадьбе принимает яд и умирает до свадьбы… Та же участь уготована и замужней женщине, нарушившей супружескую верность. Убивают виновных в прелюбодеянии и мужчину, и женщину, и такое убийство в курдской среде не влечет за собой кровной мести» [271]. Сравнение гаро и нага с курдами особенно примечательно – и те и другие живут общинной жизнью, не составляют государства, хотя курды и борются за создание собственной государственности в течение веков. Но курды исповедуют теистическую религию – ислам, а гаро и наго – демонистические магические культы. И не следует предполагать, что различные брачно-семейные принципы – суть просто несходные местные или народные традиции. До исламизации языческие народности Аравии также отличались крайней непрочностью и хаотичностью брачно-семейных отношений [272]. Свобода добрачных отношений отнюдь не способствует складыванию прочной семьи. «Семья ао не отличается прочностью, часты разводы, многие по нескольку раз вступают в брак, – отмечает С. А. Маретина. – Мужчины часто бывают неверны женам, посещая места ночлега девушек» [273]. В качестве примера мы избрали два неписьменных народа Северо-Восточной Индии, поскольку в их устоях особенно разительны отличия от соседних народов, тысячелетиями исповедующих теистические религии. В случае с гаро и нага становится совершенно ясно, что теистические, государственные, письменные и строго этические формы жизни эти народы не восприняли не потому что не имели никакого сведения о них, но потому что не хотели воспринимать. Без всех этих «обременительных атрибутов цивилизации» гаро и нага жить было приятней и удобней. Строй народов, живших более изолированно от цивилизованных сообществ, очень близок к жизни племен Ассама. Бронислав Малиновский в знаменитой работе «Пол и наказание в обществе дикарей» писал об обычаях обитателей Тробриандских островов (Меланезия): «Любые мужчина и женщина на Тробриандах в конце концов вступают в брак после периода детских сексуальных игр, вольностей подросткового возраста и того периода жизни, когда любовники живут друг с другом более или менее постоянно, разделяя с тремя или двумя такими же парами кров одного «холостяцкого дома» [274]. Семьи тробриандских меланезийцев также отличаются непрочностью. У гуронов (индейское племя северной Америки) «девичество, девство не считается чем-то хорошим» [275]. У эскимосов целомудрию невесты предпочитаются ее деловые качества – умение изготавливать одежду, заготавливать пищу впрок и пр. [276] «Девочки у каро-батаков считаются взрослыми в 12 лет, а мальчики – в 14 лет, и хотя добрачные связи не разрешены, они все же случаются довольно часто, а нежелательная беременность прерывается, что ведет к большому количеству бесплодных браков впоследствии, – отмечает русский ученый Е. В. Ревуненкова со ссылкой на голландского этнолога Р. Рёмера, и добавляет – добрачные половые отношения никак не связывают молодых людей в будущем» [277]. Широкое распространение искусственного прерывания беременности является одной из особенностей этики неписьменных народов. Теистические цивилизации относятся к убийству плода в чреве и новорожденного, как правило, резко негативно. Такое убийство приравнивается к «обычному» убийству и влечет за собой соответствующую кару. По византийскому «Номоканону» Иоанна Постника совершившая аборт на семь лет лишается общения в церковных таинствах. Светские законы отличались еще большей суровостью. Священная книга мусульман, Коран, провозглашала: «Не убивайте детей ваших, опасаясь бедности. Мы им и вам дадим потребное для жизни; истинно, убивать их есть великий грех» (Коран 17, 33). Убежденность теистических религий в непозволительности искусственного прерывания беременности и убийства новорожденных понятна. Бог создал человека, чтобы он пришел к Нему. Человеку уготована вечность и блаженное состояние близ своего Творца или даже полной слиянности с Ним. Мужчина и женщина, соединяясь, познавая друг друга, оказываются соучастниками великого божественного действа. Новая личность, которой уготована вечность, а не только несколько десятилетий тяжелой земной жизни, зарождается как бы в соединении божественной и человеческой воли. Человек в этот миг своей земной жизни становится творцом вечности, причем не собственной, а иного существа, которое при безусловном родстве будет особой личностью, принесет собственный дар, талант в нескончаемое божественное бытие. Именно поэтому все, что связано с этим великим актом богочеловеческого соработничества (синергийности, как говорят богословы [278]) священно в теистических культурах и подлежит особо строгой регламентации. Неправильные человеческие действия здесь могут жестоко поразить не только самого нарушителя, но и его близких и тех, кто произойдет от него, то есть его потомков. Понятно, что убийство собственного ребенка, отказ от сотрудничества с Богом в даровании вечности жизни не может не рассматриваться в такой системе как преступление особо тяжкое. «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» – объяснял ученикам Иисус Христос (Мф. 18, 5). А кто отказывается принять и даже убивает «такое дитя», тот убивает в себе Самого подателя жизни, становится не только детоубийцей, но и богоубийцей. «Вынося Бога за скобки», неписьменные народы, понятно, не рассматривают убийство ребенка как богоубийство. Естественные чувства любви и жалости к собственному дитяте, конечно, имеются и у «дикарей», но они не утверждены на принципе божественного долга, остаются чувствами «чисто человеческими». При смерти младенца его душа возвращается на ветви мирового дерева птичкой оми или уходит к предку-тотему, чтобы вновь вселиться в утробу женщины того же рода. Так что смерть новорожденного и тем более смерть плода в чреве не рассматриваются как космическая катастрофа, как абсолютное уничтожение неповторимой, уникальной личности, предназначенной вечности. Должно быть поэтому практика аборта и убийства маленьких детей широко распространена среди неписьменных народов. В. Рот пишет о повсеместности такого обычая среди аборигенов Квинсленда [279], А. Ховитт отмечает его распространенность в Юго-Восточной Австралии [280]. Австралийцы верят, что убитый вернется в утробу матери. Иногда, пишет Ховитт, убивают младшего ребенка, чтобы старший съел его и воспринял его силу [281]. Спенсер и Гиллен [282] говорят об обычае убивать всех детей сверх трех-четырех. Дети поедаются взрослыми и своими старшими братьями и сестрами в особо засушливое время. «Но детей при этом любят» – сардонически резюмируют исследователи северных племен Центральной Австралии. О своеобразном обычае среди южноамериканских индейцев абипонов рассказывает Добризхоффер. «Матери кормят своих детей грудью в течение трех лет, и в это время им запрещено иметь супружеские отношения со своими мужьями. Мужья, устав от столь долгого воздержания, часто берут себе других жен. Потому, страшась быть оставленными, женщины убивают своих детей, подчас избавляясь от них насильственно, не дожидаясь их рождения. Боясь стать вдовами при живых мужьях, женщины не стыдятся вести себя более жестоко, чем тигрицы» [283]. Довольно частые находки доисторических захоронений грудных детей и даже выкидышей (неандертальские захоронения в Крыму – Киик Коба и в Дордони, Франция, – Ла Феррассэ) говорят о том, что сотню тысяч лет назад люди и в этих маленьких существах ценили человеческую личность, а предавая их земле по полному погребальному чину, ожидали их воскресения наравне со взрослыми. Такие воззрения, можно предположить, побуждали доисторических людей с благоговением относиться к зародившейся новой жизни. Это – еще один аргумент в пользу теистического характера их религиозности. Неисторические и доисторические народы и в этом оказываются несходными. КАННИБАЛИЗМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ Историки прошлого зафиксировали еще более дикие формы межчеловеческих отношений у примитивных племен. Инка де ла Вега, которого нет оснований подозревать в склонности ко лжи, писал в «Истории инков» о чариванах, живших по соседству с империей Инков в XV-XVI веках: «У них не было религии и они ничему не поклонялись… жили они как звери в горах без селений и домов, ели они человеческое мясо, и чтобы иметь его они совершали набеги на соседние провинции и поедали всех попадавших к ним в плен…, а когда они их обезглавливали, то пили их кровь… Они ели не только мясо соседей, которых брали в плен, но и своих собственных людей, когда они умирали. А после того, как они его съедали, они по суставам складывали вместе кости и оплакивали их и хоронили в расселинах скал или в дуплах деревьев… Одеты они были в шкуры… Соединяясь для совокупления, они не считались с тем, были ли то их сестры, дочери или матери» [284]. Подобным же образом Инка де ла Вега описывает и жителей провинции Ваика-пампа, завоеванных инками. Но при этом добавляет: «Они поклонялись многим богам. Инка ввел культ единого Солнца» [285]. В описаниях диких племен де ла Вегой без труда можно заметить элементы древних обрядов – например вкушение плоти умерших ради восстановления родового единства. Эта традиция и ныне широко распространена среди южноамериканских индейцев, а равно и среди некоторых племен горной части Новой Гвинеи. Южноамериканские индейцы гуайяки сжигают умерших соплеменников, собирают золу, смешивают с истолченными в муку костями и, разбавляя водой, потребляют как священную пишу. По их представлениям сила умерших при этом переходит в живых, а их духи уже не могут вредить и становятся помощниками и защитниками тех, кто воспринял их плоть [286]. Эндоканнибализм (то есть употребление в пищу людей, с которыми пребываешь в родстве) распространен на Новой Гвинее среди южных форе и гими. У гими умерших едят только женщины, дабы они вновь возродились в их лонах. После таких актов каннибализма мужчины племени с благодарностью подносят своим женам свинину – любимое мясное лакомство папуасов. Некоторые исследователи объясняют новогвинейский эндоканкибализм простой потребностью в мясной пище, но скорее всего это не так. Рядом с форе и гими живут столь же бедные племена папуасов, которые при очень умеренном мясном рационе никогда не поедают собственных мертвецов и с презрением говорят о своих соседях людоедах, как о «дикарях». Обычай эндоканнибализма связан не с нехваткой пищи, но с верой в возрождение. Для гими это особенно очевидно. Утробы папуасских женщин, подобно утробе самой земли, превращаются в могилы умерших и в необходимое условие их возрождения. Но если в древних религиях при уподоблении «Матери – Сырой Земли» женской утробе всегда предполагалось и различие между ними, так как умерший – это небесное семя, а похоронный обряд – соитие Неба и Земли, что и позволяло ждать небесного воскресения похороненного соплеменника, то у современных гими плотоядение предполагает исключительно земное возрождение из утробы земной женщины, принявшей в себя плоть умершего родственника. Достоверных свидетельств обычаев эндоканнибализма в доисторическом прошлом нет. Иногда эта традиция предполагается у чжоукоудянских синантропов. Профессор Йиндрижиха Матейка замечает следы эндоканнибализма у верхнепалеолитических охотников Пршедмости (близ Пршерова, Чехия). Но следует откровенно признаться, что археологически эндоканнибализм практически недиагностируем, и потому по большей части вменяется древним людям по аналогии с современными дикарями. Лучше определяется иное – погребальные обряды людей палеолита и неолита таковы, что они скорее предполагают веру в возрождающую к Небу утробу земли, нежели в возрождающую на ту же землю утробу женщины-людоедки. Последнее – скорее вторичная деградация, характерная для современных неписьменных народов подмена земным небесного, чем реликт доистории. Примечательно, что после поедания чариваны, в описании де ла Вели, не бросали останки своих умерших, но «по суставам складывали кости и оплакивали их», а затем хоронили в дуплах и расселинах скал. Вот это – без сомнения следы древнего заупокойного обряда, хорошо известного и палеоантропологам, и историкам древних цивилизаций, например – ведической. Но у ведических ариев плоть мертвецов не съедалась, а предавалась огню погребального костра, который переносил ее на небо (огонь этот так и именовался – переносчик плоти, кравья вахана), а с несгоревшими костями совершители погребального обряда поступали практически так же, как и андские чариваны (см. Религии Южной Азии. Часть 2: Ведическая религия). Говоря о чариванах, Гарсиласа де ла Вега упоминает не только эндоканнибализм заупокойного обряда, но и экзоканнибализм (то есть употребление в пищу людей неродственного происхождения). Для принявшего христианство потомка инкских аристократов набеги дикарей на соседей и поедание всех взятых в плен мужчин воспринималось лишь как звероподобная дикость, но изучение свременных экзоканнибалов убеждает, что мы почти всегда имеем дело с извращением не гастрономии, но религии. Альфред Метро [287] описал обычаи южноамериканских людоедов тупинамба. Они, подобно чариванам, находясь на очень примитивном уровне социальнохозяйственной организации, ведут войны с соседними племенами исключительно ради добычи пищи для каннибальских пиршеств, однако пойманных людей не сразу пожирают. Этому предшествуют довольно долгие мучения жертв, в результате которых они, в конце концов, погибают и только тогда их употребляют в пищу. Женщины макают в кровь погибших соски грудей, а потом дают их своим младенцам, которые становятся людоедами буквально с молоком матери. Похожие обычаи многократно отмечались и у североамериканских индейцев. Ирокезы, например, неделю поджаривали пленных на медленном огне, принуждая петь на сковородках. Военные походы за объектами людоедских трапез с последующими мучениями жертв известны и в Полинезии, и в Меланезии, и на Новой Гвинее (северные форе, бимин-кускусмин, мийянмины). У биминов одни части убитых врагов ели женщины, другие – мужчины. У мийянминов ели только тела, а головы хоронили. Рядом живущие оксапмины часто становятся объектами подобных набегов; они жестоко мстят людоедам, но их обычаев не перенимают и о поедании человеческого мяса говорят с отвращением. Сами людоеды объясняют традицию пыток жертв перед съедением тем, что они желают съесть не столько плоть, сколько силу и мужество. Дабы жертвы выказали больше мужества их и подвергают изощренным мучениям. Но объяснение это вряд ли можно полагать исчерпывающим, хотя и оно свидетельствует о безусловной нравственной деградации людей, которые собственное усилие к самосовершенствованию, дабы исправить перед Творцом недостатки, отделяющие человека от Бога, заменяют на приобретение чужих заслуг столь ужасным, «разбойничьим» способом. Но действительный смысл экзоканнибализма глубже. Людоеды не только надеются таким образом приобрести чужую мудрость и доблесть, но и, заставляя страдать и умереть другого, хотят сами избежать наказания за собственные проступки. Вкушая плоть и пия кровь страдальца, они потом соединяются с его очищенной страданием сущностью, обретая без собственных нравственных усилий и мук очищение. В III томе «Золотой ветви» сэр Дж. Фрезер [288] собрал множество подобных примеров. «В области Нигера девушка была принесена в жертву, чтобы очистить от беззаконий страну. Когда тело ее безжалостно волокли по земле, будто бы с ним покидали племя последствия всех совершенных злодеяний, люди кричали «злодеяния!» «злодеяния!». Затем тело было брошено в реку». С. Кроутер и Дж. Тайлор [289] сообщают, что в тех же местах существовал обычай всем людям, совершившим тяжкие преступления, в конце года платить штраф в размере 28 нгуг (чуть больше двух британских фунтов золотом). На все эти деньги покупали двух людей, которых приносили в жертву за грехи «штрафников». Очень часто такие искупительные жертвы перед смертью подвергали бичеванию и иным мучениям. Нельзя не учитывать, что многие этнологи подчеркивали обязательность каннибализма при человеческих жертвоприношениях в Западной Африке. «На берегах Нигера человеческое жертвоприношение не рассматривается как завершенное, пока жрецы или все общинники не вкусили от плоти жертвы. В некоторых районах куски тела жертвы специально развозят во все далеко отстоящие селения» [290]. Подобные обычаи, сопряженные с мучениями жертвы, были характерны для народов Перу и Центральной Америки, майя и ацтеков, африканцев Ганы и Бенина, обитателей Гавайских и Соломоновых островов, племен Северо-Восточной Индии и Верхней Бирмы. И повсюду поедание останков жертвы считалось обязательным. В княжестве Северо-Восточной Индии Джайнтия, например, как и в большинстве горных районов Северо-Восточной Индии, человеческие жертвоприношения еще в начале XIX века совершались регулярно при княжеском дворе. Предпочтительны были добровольные жертвы. Людей, объявивших, что они хотят быть принесенными в жертву Дурге (жена Шивы в ипостаси богини смерти, видимо, для этих мест, под именем Дурги выступало какое-то местное издревле чтимое божественное существо), если они подходили для этой цели по ритуальным соображениям, князь богато награждал и все оказывали будущей жертве – бхог каора – божественные почести. Он, в частности, имел право сближаться с любой женщиной – такая близость считалась для нее великим божественным даром. Однако вседозволенность не продолжалась долго. В день навами, когда свершалась Дурга пуджа, омывшуюся и очистившуюся жертву облачали в новые великолепные одеяния, умащивали красным сандалом, на шею надевали цветочную гирлянду. Прибыв в храм в окружении пышной процессии, предназначенный на заклание поднимался на помост перед изображением богини и на какое-то время погружался в медитацию и рецитирование мантр. Затем он делал специальное движение пальцем и совершитель жертвоприношения, также читая определенные мантры, отсекал ему голову, которую тут же на золотом подносе помещали перед изображением богини. Затем легкие жертвы готовились и вкушались жрецами – кандра йогами, а рис, приготовленный на крови жертвы, посылался во дворец и его ели раджа и близкие ему люди. Когда добровольных жертв не было, людей для Дурга пуджи похищали за пределами княжества. В 1832 году один из таких предназначенных в жертву смог бежать из-под стражи и поведать британским властям о тайных ритуалах княжеского двора. Раджа был смещен, а его владения перешли под власть британской колониальной администрации [291]. Но есть все основания предполагать, что подобные жертвоприношения еще долго совершались тайно как дикими племенами, так и индуинизированными правителями Северо-Восточной Индии. Может быть, кое-где в глухих уголках Арунчал Прадеша они совершаются и поныне. Джаинтия, конечно, не может считаться «неписьменной культурой» – в княжестве имелось и высшее образованное сословие и монархическая власть и какая-то историческая традиция. Но поверхностная индуинизация не изменила религиозных представлений и строяжизни общества. Именно поэтому при дворе совершались человеческие жертвоприношения и акты каннибализма, столь обычные среди окружающих княжество неписьменных племен. По обе стороны Паткайского хребта, отделяющего индийский Нагаленд от бирманского Чиндвина, регулярные человеческие жертвоприношения сохранялись еще много десятилетий после упразднения Джаинтийского княжества. В долине Хукаванг (Северный Чиндвин) существовал обычай приносить в жертву мальчиков и девочек в августе, перед началом сбора риса. Жертвы похищались и обычно ими становились совсем маленькие дети. На шею им набрасывалась веревочная петля и на этой веревке их водили из дома в дом по всей деревне. В каждом доме ребенку отсекали одну пальцевую фалангу, и все жители дома мазались кровью, они также лизали отрубленную фалангу и натирали кровью котел для приготовления пищи. Затем жертву привязывали к столбу посреди деревни и умерщвляли постепенно, нанося несильные удары копьем. Кровь из каждой раны тщательно собирали в бамбуковые сосуды и ею, потом мазали себя все жители деревни. Внутренности умершего вынимались, а мясо снималось с костей, и всю плоть, поместив в корзину, выставляли на платформе посреди деревни как жертву духам. Жители деревни, все измазанные жертвенной кровью, плясали вокруг платформы и рыдали одновременно. Затем корзина и ее содержимое, как сообщает Грэнт Броун, выбрасывались в лес. Но очень вероятно, что и плоть жертвы тайно поедалась общинниками [292]. Хотя внешне жертва Чивдвина понимается как жертва духам урожая, в действительности в обрядах присутствуют все знакомые уже элементы приобщения к плоти и крови страдальца. При этом каминами и нагами в качестве жертвы предпочтительно избираются дети и невинные девушки, то есть существа, в минимальной степени отягощенные собственными грехами. При индуинизированных дворах горских князей Северо-Восточной Индии особенно ценились жертвы добровольные. Сам факт добровольности смывал грехи будущей жертвы, и освобождал от необходимости подвергать ее дополнительным мучениям. Классическая форма человеческого жертвоприношения с последующей каннибальской трапезой состоит из следующих элементов: недобровольная, по возможности безгрешная жертва подвергается тяжким мучениям перед и во время умерщвления, а затем поедается полностью или частично (облизывание крови с обрубленных пальцев в Чиндвине – разумеется, является проявлением плотоядения). Предпочтительность именно человеческой жертвы в том, что ни одно жертвенное животное не обладает свободой воли и потому лишь с большой долей условности может уподобляться свободному божественному существу, с которым желает соединиться жертвователь. Со времени открытия принципа антропоморфизма божественного изображения (см. лекцию 4) человек не мог не считаться наиточнейшей иконой Бога. Безгрешный человек (ребенок, девственник) еще точнее воспроизводил божественный образ. От этой позиции расходятся два пути. Один – путь теистической религии, когда, осознав свое потенциальное подобие Богу, адепт стремится актуализировать его через уничтожение в себе всего, что этому подобию не соответствует. Это – как бы растянувшееся на всю жизнь самозаклание, принесение себя в жертву. «Ветхий наш человек распят, – писал апостол Павел римлянам, – чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху» [Рим. 6, 6]. Для ортодоксального индуизма последним жертвоприношением человека является сожжение его мертвого тела на кремационном костре. Человек в этих случаях добровольно идет жертвенным путем, дабы стать одно с Богом. Иной путь в религиях демонистических. Здесь адепт, желая получить власть над духами, также стремится, сознательно или нет, но обрести божественную природу повелителя и творца духовных сил. В Боге его привлекает не блаженство, не полнота добра, но власть над миром и духами. Через человеческую жертву, наиболее «подобную» Богу, да еще предварительно очищенную страданиями, такой жертвователь-демонист надеется обрести желаемое, реализуя обычный принцип жертвоприношения: через соединение с жертвой жертвователь уподобляется объекту жертвы. Понятно, что такие жертвы нечасто бывают добровольными и обычно приходится совершать насилие над приносимым в жертву человеком. Но насилие нимало не смущает жертвователя, ибо в самом насилии над жертвой уже проявляется та богоподобная власть, которой он стремится достичь в результате жертвоприношения. «О человек, благодаря моей благой карме ты предстал предо мной как жертва» – объявляет жертвователь в Калика Пуране. Поэтому в теистической религии человек жертвует собой ради Бога, а в демонистической – другим ради себя самого. Даже там, где ритуальный каннибализм не имеет широкого распространения, он встречается в среде колдунов. «Колдуны получают и возобновляют свою силу, вкушая человеческую плоть, – указывает Паула Броун, – колдун может обрести могущество поглощая жертву» [293]. И среди колдунов Сибири, и в Африке, и в Океании смерть человека часто объясняется соплеменниками тем, что могущественный кудесник «съел» душу умершего. Колдун-людоед не ограничивается поглощением только бестелесной души. В Западной Африке людоедство обязательно для тайных обществ. У нага и даяков убийство человека и ношение головы убитого на поясе – практически обязательный момент возрастной инициации мальчиков. Понятно, что охота за головами – форма символического людоедства. Совсем не обязательно, чтобы голова на поясе охотника была головой врага, снятой в честном бою. Это вполне может быть голова ребенка или старухи, убитых из засады только ради желанного трофея, обладающего огромной магической силой. При всем подобии ритуального людоедства обычному принесению в жертву животных, практиковавшемуся чуть ли ни во всех дохристианских религиях и кое-где сохраняющемуся и поныне, имеется одно различие, делающее в теистической религии невозможным использование человека в качестве жертвы. Любое животное во время жертвоприношения символически отождествляется с объектом жертвы, подобно пище, которая в результате ее вкушения, отождествляется с вкушающим. В некоторых религиозных традициях для такого отождествления жертвы и объекта жертвенного действия может использоваться образ трапезы – Бог ест жертву, беря из нее духовную субстанцию, а человек-жертвователь затем ест материальную ее вещественность, соединяясь тем самым с объектом жертвы. В других традициях жертва освящается, становясь сама небесной пищей, «телом» бестелесного Бога. Но в отличие от любой иной земной сущности, приобретающей божественную, небесную качественность в результате священнодействия, человек является «образом Божиим» по своей природе. «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» – приводит Библия слова Творца человеков [Быт. 1, 26]. Человек призван к вечности и божественной жизни и потому использование человека иным человеком для достижения собственных религиозных целей, принесение его в жертву для того, чтобы самому искупить грехи и обoжиться, является беззаконием. Вечность жертвы ни на йоту не «дешевле» вечности жертвователя, ибо и та, и та – суть одно – их Творец и Создатель. «С верою и богатством одной души не идут в сравнение вся слава и лепота неба и земли, и прочее их украшение и разнообразие» – говорил раннехристианский египетский аскет Макарий (4.17.18) [Добр. 1,178]. А потому одной жизнью беззаконно покупать иную, чужой вечностью обретать собственную. Во многих религиях и культурах мы встретимся с подобной подменой. Ни одному обществу, даже обладающему живой теистической верой, не удается совершенно исключить этот ужасный обычай. Его особая распространенность у неписьменных народов вызвана тем, что само представление о человеке как об «образе Божием» здесь часто забыто вместе с представлением о Самом БогеТворце. Человек подчас растворяется в мире животных и поэтому вполне может рассматриваться как жертва. Его аналогичность жертвователю становится том качеством, которое превращает человеческие жертвоприношения и предпочтительные перед всеми иными для некоторых народов, а смутное воспоминание об особом призвании человека во вселенной придает им исключительную «силу». В пределе человеческие жертвоприношения и религиозно-мотивированное людоедство превращаются в людоедство «гастрономическое», никакими религиозными мотивами не обусловленное. Если человек неотличим от животного, то он может быть не только жертвой, но и обычной пищей. Экзоканнибализм новозеландских маори, фиджийцев и ряда бантуязычных народов Западной Африки стал кулинарным обыкновением. Так, на Фиджи вожди при заключении союза обменивались дарами, включавшими живых женщин для сексуальных утех, и вяленных мужчин для утех гастрономических. Обвинения в людоедстве и по сей день используются для сведения политических счетов в предвыборных кампаниях некоторых африканских государств (СьерраЛеоне, Центрально-Африканская Республика, Верхняя Вольта). Существует несколько теорий, появившихся в конце XIX- начале XX века, объясняющих причины человеческих жертвоприношений. Позднейшие исследования мало прибавили к ним. Э. Тайлор считал, что душой принесенного в жертву искупается душа живого человека или целого общества [294]. У. Робертсон Смит, увлеченный теорией тотемизма, указывал, что племена, тотемами которых были хищные животные, могли в качестве ритуальной пищи употреблять людей из иных племен, соединяясь через пищу со своим божеством [295]. Сэр Дж. Фрезер полагал смысл человеческих жертвоприношений в обмене энергии между убиваемыми старцами и приносящими их в жертву молодыми претендентами на власть в общине. Через такое жертвоприношение мудрость старцев соединялась с креативной силой юности. Генри Губерт и Марсель Мосс видели смысл подобных жертв в уподоблении человека богам. Бог, творя мир, приносит себя в жертву, и, следовательно, человек, дабы достичь Бога, должен принести Ему в жертву себе подобного [296]. И действительно, причины человеческих жертвоприношений многообразны. Выше главным образом рассматривались жертвоприношения, целью которых является или соединение с божеством или очищение от грехов жертвователя. И в том и в другом случае жертвователю необходимо отождествить себя с жертвой. При стремлении к соединению с Богом жертва или сама освящается в качестве тела божества или является пищей в божественной трапезе. В обоих случаях человеку следует вкушать от жертвы, чтобы достичь единения с объектом жертвоприношения, с Богом. В случае очищения грехов жертвователя жертву часто подвергают предварительно истязаниям, а после заклания поедают не для соединения с Богом, но для соединения с самим принесенным в жертву, ибо он своими страданиями искупил грехи жертвователей и, превратившись в жертвенную пищу, передает свою невинность участвующим в трапезе. В обоих этих случаях может иметь место явный или символический ритуальный каннибализм. Но смысл человеческих жертвоприношений яснее раскрывается в иных его формах. В «Евангельском приуготовлении» [I, X, 40] Евсевий Кесарийский приводит слова эллинизированного финикийского историка Филона Библского, выходца из страны, где человеческие жертвоприношения являлись делом вполне обычным: «У древних правителей имелось обыкновение в случае крайней для города или народа опасности, дабы избежать полной гибели, приносить в жертву умилостивления разгневанным демонам любимейших из своих детей». Диодор Сицилийский подтверждает это сообщение, описывая ужасающее жертвоприношение первенцев знатнейших фамилий Карфагена «Кроносу», когда город был осажден римскими войсками Агафокла [XX, 14]. Речь идет об умилостивлении духов, жаждущих человеческой крови. В Индии не раз фиксировались случаи, когда бездетные матери или родители тяжко болевших детей убивали чужого ребенка, дабы получить собственного или сохранить ему жизнь» [297]. Анна Смоляк [298] указывает, что при бесплодии нанайской женщины шаман обычно «крадет душу» у беременной якутки, эвенкийки или русской. Тогда новорожденный внешностью напоминает представителей того народа, из которого он «украден». Смерть плода иноплеменницы – жертва за жизнь ребенка своего племени. В «Галльской войне» Юлий Цезарь так описывает обычаи человеческих жертв у галлов: «Все галлы чрезвычайно набожны. Поэтому люди, пораженные тяжкими болезнями, а также проводящие жизнь в войне и в других опасностях, приносят или дают обет принести человеческие жертвы; этим у них заведуют друиды. Именно галлы думают, что бессмертных богов можно умилостивить не иначе, как принесением в жертву за человеческую жизнь также человеческой жизни. У них заведены даже общественные жертвоприношения этого рода. Некоторые племена употребляют для этой цели огромные чучела, сделанные из прутьев, члены которых они наполняют живыми людьми; они поджигают их снизу и люди сгорают в пламени» [VI, 16]. В «Галльской войне», к сожалению, не сообщается, какой формы были «чучела» – человеческой или звериной, а это прояснило бы многое. Если звериной – то тогда мы имеем дело с подменой обычного животного жертвоприношения человеческим. Если форма была человеческой, то это – воспроизведение первожертвы при творении мира, аналогичное описанной в знаменитом 90-м гимне X мандалы Ригведы: «Человека, рожденного в начале, его принесли в жертву боги…» [X. 90, 7]. В индийских текстах ведического ритуала содержатся глухие упоминания о человеческих жертвоприношениях, но всегда – как о чем-то категорически запрещенном, невозможном. В Айтарея Брахмане [VII, 13-18] рассказывается о некоем царе, давшем обет Варуне (великому небесному хранителю справедливости у ариев) принести в жертву первого сына, если бог даст ему детей. Сын родился, но отец пожалел его. Когда же мальчик подрос и царь собрался с силами исполнить обет, то ребенок, узнав о готовящейся ему участи, бежал из дома. Мальчик был пойман и приготовлен на заклание, но тут явился Варуна и воспретил совершать жертвоприношение. В том же тексте повествуется, что боги принесли человека в жертву, но его жертвенная часть (медха) перешла в коня, потом в быка, потом в овна, потом в козла, потом в землю. Из земли боги ее уже не выпустили, и она взошла рисом, который с тех пор и приносится в жертву. Быть может воспоминанием этого предания является древний обычай при совершении агникаяны (ведийское жертвоприношение, изредко осуществляемое и ныне) под возводимый кирпичный алтарь помещать черепа человека, коня, быка, овна и козла. При этом действии брахман читал как раз 90-й гимн X мандалы Ригведы. Но полагать в связи с этим, как делает видный индолог Хастерман, что человеческие жертвоприношения практиковались в Индии до 900-700 годов до Р. Х. нет оснований. Скорее здесь иное. И миф Айтарея Брахманы и обычай Агникаяны показывают, что великой космогонической пурушамедхе (человеческому жертвоприношению) в мире людей должна соответствовать жертва животная или даже простое подношение риса. Сила жертвы от этого не умаляется, а вот человеческая жертва, воспрещенная «тысячеглазым» Варуной, является вполне беззаконной. Попытка же человека повторить космогоническое деяние не в символической, а в буквальной форме за счет иного человека и тем самым достичь самому божественного статуса – есть дело демоническое, а не божеское. Возможно, что такая практика потому и воспрещалась каноническим ведийским текстом, что она имела место как ошибочная интерпретация религиозной традиции. Примечательным фактом является отсутствие человеческих жертвоприношений и религиозно-мотивированного людоедства у самых «отсталых» народов, живущих на уровне палеолитической экономики (аборигены Центральной и Южной Австралии, обитатели Огненной Земли, пигмеи и бушмены Африки). Напротив, у более «развитых» неписьменных народов, издревле освоивших экономику неолитическую, человек часто становится жертвой и объектом каннибальской трапезы. Отмеченное исследователями неоднократно, это явление может свидетельствовать о том, что религиозный каннибализм и человеческие жертвоприношения являются извращением некоторых неолитических ритуальных практик, а народы, уклонившиеся в магизм в палеолите и прекратившие свое социальное развитие на этой стадии, счастливо остались с ними незнакомы. Скорее всего, осознание человеком среднего неолита, что он, как «образ Божий», может изображать Небесного Бога подобным себе, в человеческом облике, породило образы великой человеческой жертвы, принесенной богами при творении мира. Именно это, новое представление могло побудить неолитических людей попытаться буквально воспроизвести небесное жертвоприношение на земле, забыв об уникальном призвании каждой человеческой личности. Вместо крайне тяжелого совершенствования себя, как образа Божиего, такой жертвователь избирал легкую дорогу жертвенной подмены. Вместо длящегося всю жизнь принесения в жертву себя самого, он приносил в жертву иного человека, отождествленного с собой. Казалось бы, требуемая ритуалом зеркальность земного и небесного при этом сохранялась, а собственные усилия жертвователя экономились. Но все дело в том, что при таком жертвоприношении жертвователь не мог в действительности отождествиться с жертвой, так как жертвой была иная личность. Та личность шла на Небо, очищенная страданиями, а жертвователь не только оставался ни с чем, но глубоко ниспадал, пресекая силой, ради мнимой собственной выгоды, жизнь другого человека. Отрицание «животворящего духа» в другом человеке, в жертве, упраздняло память о нем и в самом жертвователе, а вместе с такой памятью о божественном начале в себе подергивалось забвением и живое чувство Бога-Творца. Человек от предстояния перед Богом переходил в мир духов. Извращенный теизм сменялся демонизмом. Для некоторых человеческих сообществ неолита (Германия, Альпы) человеческие жертвоприношения почти безусловны. И они свидетельствуют о том, что там смена религиозной парадигмы произошла. Погрузившись в мир духов, человек переосмысливает и практику человеческих жертвоприношений. Теперь они понимаются как задабривание злобных демонов. Именно поэтому человеческие жертвоприношения широко практикуются при болезнях, эпидемиях, войнах, стихийных бедствиях. Павсаний рассказывает о беотийском обычае приносить в жертву мальчиков для задабривания Диониса, когда-то наславшего на эту область Эллады чуму [Опис. Элл. 9, 8, 2]. В Перу, когда погода не по сезону угрожала урожаю, приносили в жертву детей. В Бенине [299] в случае заливных дождей подданные просили правителя сделать «джуджу», то есть принести человеческую жертву богу дождя. Брали девушку, над ней читали молитву, в рот ей вкладывали послание к богу и затем забивалинасмерть дубиной. Тело привязывали к жертвенному столбу так, чтобы дождь мог видеть. Подобным же образом приносилась и жертва солнечному божеству, когда при бездождии выгорали посевы. Сэр Ричард Бертон [300] в середине XIX века видел подвешенную на дереве юную девушку, тело которой склевывали хищные птицы. Местные жители объяснили путешественнику, что это «подарок духу, подающему дождь». Североамериканские индейцы оджибве (чиппева) во время эпидемии выбирали самую красивую девушку племени и топили ее в реке, дабы дух заразы удалился [301]. Фон Врангель [302] сообщает, что в 1814 году чукчи, дабы прекратить мор среди людей и оленей принесли в жертву духам уважаемого вождя. Среди индийских гондов до середины прошлого века совершались ежегодные человеческие жертвоприношения духам земли – жертву живьем разрывали на куски, которые потом закапывали на полях для того, чтобы земля была щедрее к земледельцам. Переосмысление древних неолитических образов Матери-Земли, рождающей Небу погребенных в ней умерших, здесь очевидно деградировало до ожиданий хорошего урожая злаковых (символа возрождения в неолите), гарантированного принесением земле в жертву человеческой плоти. Символ и первообраз тут совершенно поменялись местами. В Северо-Восточной Индии кхаси приносят в жертву страшному плотоядному демону Кесай Кхати чужестранцев с единственной целью – насытить его и тем самым предотвратить гибель соплеменников. Горцы Типперы и Читтагонга еще в начале XX века регулярно задабривали «14 богов» человеческими жертвами. У различных народов разно понимают смысл задабривания духов человеческими жертвами. Горцы Северо-Восточной Индии уверены, что духи предпочитают пить человеческую кровь и ради нее готовы служить жертвователям. Иногда это могут быть даже духи-покровители рода и семейного очага, как тхлены у кхаси. У африканских племен главенствует иное представление: «Души людей, принесенных в жертву духам, – отмечал А. Б. Эллис в этнографическом исследовании народов Британской Западной Африки, – немедленно после жертвоприношения поступают, по всеобщему убеждению, в услужение этим духам, подобно тому, как принесенные в жертву во время заупокойных ритуалов становятся рабами тех умерших, на могилах которых они закланы» [303]. Жертвы умершим также известны с эпохи неолита. Но тогда они были немногочисленны. Судя по заупокойному инвентарю, и большинстве неолитических сообществ не существовало представлений о переходе «душ» вещей в иной мир, для того чтобы умерший ими пользовался. Как и в палеолите, сравнительно немногочисленные предметы, помещавшиеся с умершим, имели символико-религиозное, а не утилитарное назначение. Посмертное существование представлялось в таких сообществах отнюдь не аналогом земного и земные вещи там вовсе не считались нужными. Напротив, в сообщестrnix, перешедших к демонистическим верованиям, как мы помним, тот мир подставляется точным подобием мира этого. Потому умершему там необходимы вещи и пища этого мира. По той же причине, если умерший в этой жизни прибегал к услугам рабов и слуг, имел жен и наложниц, их могут отправить вослед умершему господину, принеся в жертву, умертвив на могиле и похоронив рядом с хозяином. Так поступали славяне и германцы до христианизации, таковы и обычаи многих африканских племен. В 49-м Давидовом псалме, именуемом «Псалмом Асафа» БогТворец поучает людей: «Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя… Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» [Пс. 49, 7-15]. Иногда полагают эту высокую мысль особым духовным достижением израильского народа. Но за тысячу лет до царя Давида другой венценосец древности, египетский царь Гераклеополя Хети Небкаура (имя восстанавливается предположительно) поучал своего сына, царевича Мерикара: «Утверди свое пребывание в жилище Запада (то есть в инобытии) творением правды и справедливости, ибо на этом утверждаются сердца человеческие. Приятней ‹Богу› хлебное приношение праведного, чем бык беззаконника» [Мерикара, 128-129] [304]. Для религии теистической единственной ценностью в человеке, угодной Творцу является его «праведность», то есть соответствие той абсолютной правде, которой и на которой построен мир и которая является потому важнейшим качеством Бот как Творца. Совершенствуя свою праведность, отказываясь в свободном выборе от зла, человек восходит к Творцу. Жертва, приносимая человеком как сродство Богообщения, имеет в этом контексте только вспомогательное, символическое значение, хотя и весьма важное. «Мои все звери в лесу и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо Мною» – говорит Творец в том же 49-м псалме. Богу не нужны обильные человеческие подношения, ибо все, что есть, и так создано Им и всегда пребывает «пред Ним». Богу нужно только свободное человеческое произволение добра, правды. Это – единственный ценный дар, но ценный опять же не для Бога, Который есть полнота и без человеческой праведности, но для нас, только праведностью приближающихся к Праведному и Благому Творцу. Когда праведность подменяется обильными жертвами, мы всегда можем констатировать угасание теистической веры, когда же не довольствуясь «тысячами быков и овнов» люди начинают приносить в жертву людей, то перед нами не просто помрачение, но полное забвение смысла религиозного усилия. Заставляя страдать и умирать другого человека, жертвователь не улучшает, но, напротив, уничтожает свою праведность. Однако для духов, существ, не обладающих полнотой, столь же тварных и частичных, как и сам человек, жертва имеет совсем иной смысл. Она их действительно «кормит», то есть добавляет им силу, в которой они испытывают, как все частичное, недостаток. Чем энергетически мощней жертва, тем лучше этим тварным существам. Свободное, богоподобное человеческое существо бесконечно «мощнее» быков и козлов и потому для духов такая жертва наиболее желанна, а для жертвователя – наиболее эффективна. Другое дело, что, подчиняя такому жертвователю «голодных духов», человеческая жертва бесконечно отдаляет его от Творца. Если историк религии исходит из элементарной схемы прогрессивного развития религиозных представлений и практик от «дикости» к «цивилизованности», то и человеческие жертвоприношения он считает нормой в древнейших обществах, а в современных цивилизованных полагает их всегда пережитком. Между тем религиоведу следует при оценке человеческих жертвоприношений использовать не личное нравственное чувство, всегда восстающее против такой жестокости, но богословскую логику. Теистическим религиям такие жертвоприношения не просто не нужны, но и прямо противопоказаны. Зато для религий демонистических, где объектами поклонения являются существа тварные и частичные, они вполне естественны. Поэтому практика человеческих жертвоприношений и ритуального каннибализма столь часто встречается у неписьменных народов, вынесших в своей религиозной жизни Бога «за скобки». Но также точно, как колдовство и магия, то есть общение с демонами, не исчезает и в теистических обществах, хотя со стороны ортодоксии с теми, кто практикует их, может вестись непримиримая война, также точно не исчезают в «письменных культурах» и страшные принципы кормления духов богоподобным человеческим естеством. Изредка подобные практики становятся и у государственных народов средоточием всей религиозной жизни – передневосточный Ханаан, Карфаген, центрально-американские сообщества перед испанским завоеванием. Но конец таких государств, как правило, печален, гекатомбы человеческих жертвоприношений не отдаляют, но только приближают их полное уничтожение. Чаще же человеческие жертвоприношения остаются эпизодическими уклонениями, вызванными временными помрачениями массового религиозного сознания или особыми тайными культами на грани извращенного теизма и магии. В религиозных системах менее организованных, подобно индуизму или китайскому религиозному комплексу, они появляются достаточно часто в различных неортодоксальных сектах. Но даже в обществах, исповедующих такие строгие системы, как христианство или ислам, мы сможем встретить эти практики. Например, у неписьменных народов широко распространен обычай приносить человеческие жертвы духам при закладке зданий. Некоторые исследователи, впрочем не очень убедительно, усматривают их еще в передневосточном неолите [305]. Но у современных народов Африки, Азии и Океании они имеются, безусловно. В Африке, в Галаме, перед главными воротами нового укрепленного поселения зарывали обыкновенно живыми мальчика и девочку, чтобы сделать укрепление неприступным. В Великом Бассаме и Яррибе такие жертвы были употребительны при закладке дома или основании деревни. В Полинезии Эллис наблюдал их при закладке храма Мавы. Они практиковались на Борнео миланаусскими даяками и на Руси и Балканах славянскими князьями-язычниками при закладке детинцев. Изредка так поступают и раджи Пенджаба, и хинаянские короли Бирмы (закладка стен Тавоя в 1780 году). В 1463 году в Ногате (селение в Германии) крестьяне в основание постоянно размываемой плотины закопали пьяного нищего. В Тюрингии, чтобы сделать замок Либенштейн неприступным, купили у матери ребенка и заложили в стену. Ребенку оставили еду и игрушки. Когда его замуровывали, он кричал: «Мама, я еще вижу тебя! Мама, я еще вижу тебя немножко! Мама, теперь мне больше тебя не видно» [306]. При реставрации Изборской крепости в одном из столпов звонницы Колокольной башни был найден замурованный в кладку человеческий скелет [307] – фактическое свидетельство древних преданий. Кто предположит, что русичи-изборяне или немцы могли в XV столетии думать, что такие жертвы угодны Богу? Принося их, они, безусловно, совершенно сознательно «кормили» демонов, а уж как это сопрягалось с их христианской совестью мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но тогда, в XV столетии, магические практики оставались только «тенью» религиозного устремления и немцев, и русских христиан. Подменить собой теизм им не удалось. «НЕПИСЬМЕННЫЕ НАРОДЫ» – ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТАГНАЦИИ У Иеремии есть замечательное пророчество: «Боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес» [Иер. 10, 11]. Общее место, что в магии, в поклонении духам, наиболее сильны самые социально отсталые народы и племена. В Европе, вплоть до XVIII-ХIХ веков все были уверены в особой колдовской силе ирландцев, бретонцев, финнов и, особенно, лапландцев-лопарей. Вера эта проявилась даже в сказке Г. – Х. Андерсена «Снежная королева». Мусульмане малайцы такую же магическую мощь приписывают сеноям, семангам и джакунам – жалким в своей бедности племенам бродячих и полуоседлых древних обитателей полуострова. Индийцы-арии страшно боятся колдунов из неиндуанизированных диких племен – мунда, курумба, гонда, ораонов, санталов. Об их способности к превращению в хищних зверей, в змей, умении вызывать на расстоянии болезнь и смерть врагов ходят самые фантастические легенды. Но легенды редко бывают вовсе лишены смысла. Народ, переставший жаждать вечности, «вынесший Бога за скобки», соединяет себя с интересами и задачами только этого, земного мира. Он пренебрегает вертикалью небесного пути, забывает о нем и полностью переориентируется на жизнь «здесь и сейчас». В этой новой «системе координат» на помощь человеку приходят духи – хозяева и распорядители этого «поднебесного» мира. К ним обращается человек в своих практических нуждах, с ними вступает в своеобразный симбиоз, скрепленный порой жертвенной человеческой кровью. И духи дают ему силу и власть. В этом демонист совершенно уверен. Слова Гегеля, что «колдовство состоит в осуществлении человеком власти в своей природности», подтверждаются логикой веры неписьменных народов. Теперь мы можем дать более точное определение тому явлению, которое мы называем религией: Религия - это есть совокупность способов достижения человеком Бога, смертным - бессмертного, временным – вечного (Теистические религии); или методы соединения человека с духами, овладения ими, защиты от них, при более или менее полном игнорировании вечного, бессмертного Бога-Творца (Демонистические религии). Но общение с духами не требует, в отличие от богообщения, жертвы самоограничения от человека. Чувство греха, сознание собственной плохости утрачивается. Поэтому исчезает и усилие по его преодолению. Человек ощущает себя слабым, но не грешным. Он ищет силы и знаний, которые дают ее, а не очищения сердца. Зная имена духов, их повадки, их вкусы и возможности, человек оказывается способным подчинять демонов или ослаблять их отрицательные воздействия. Бога, по причине Его всемогущества и безграничности подчинить невозможно, и чтобы обрести присущие Ему качества, стать Ему «подобным» приходится себя подчинять Ему. Духи хотя и могущественны, но ограничены и в силах, и в пространстве, а поэтому можно надеяться подчинить их человеческой воле. Надо «только» знать, как правильно делать это. Подчинение духов превращает колдуна в господина их мощи, но не дает ему вечности и всемогущества, присущих только Богу. Потому в культурах, ориентированных на общение с духами, эти высшие цели и не ставятся. Бескрайнее в человеке, как в существе богоподобном, ограничивается. Такое ограничение земным с неизбежностью приводит к сужению эсхатологической перспективы. Исчезает идея посмертного суда, нравственной оценки земного пути. Суд нужен в том случае, когда одной из возможностей посмертного бытия является приближение к Богу, обретение Его качеств. Бог – совершенство, и ничто несовершенное, нечистое соединиться с Ним не может. Когда же задача такого соединения не стоит, то и суд, понятно, оказывается излишним. Но освобождение от посмертного нравственного суда обесценивает и земные нормы социальных отношений. Вслед за небесной вертикалью разрушается и социальная, земная горизонталь. Отношения людей становятся свободными от нравственных законов если и не полностью (ибо общество тогда перестало бы существовать), то в большой степени. К чему же приводит слом двух этих направляющих – небесной и социальной? В результате слома человек утрачивает запредельные перспективы и обязательства перед Богом и перед будущими поколениями. Он замыкается на собственную индивидуальность, на ее сиюминутные желания и интересы. Он перестает совершенствовать себя, в стремлении стать достойным своего Творца и родить достойных потомков, но, напротив, приспосабливает мир к себе неизменному. Внутренее развитие личности при этом прекращается. Как следствие, затухают и существенные внешние изменения, осуществляемые ею. Поэтому общество с доминирующей ориентацией на мир духов останавливается в своем развитии в той степени, в какой абсолютная божественная цель жизни предана в нем забвению. Внешние социальные и материальные обстоятельства бытия при этом не деградируют, так как демонистическое общество ценит достигнутый уровень устроенности и не желает расставаться с ним. Но и дальше оно, как правило, не развивается. По социально-экономическому устроению того или иного неписьменного народа мы с достаточной вероятностью можем судить, в какой стадии своего развития он изменил теистической ориентации, предпочтя ей менее «хлопотную» ориентацию демонистическую. Анализ религиозных установок неписьменных народов позволяет с большой долей уверенности считать, что это – не начальная форма человеческой религиозности, но боковая, тупиковая и отсыхающая ветвь. Теизм и демонизм – противопоставление достаточно условное. В любом живом народном организме, в его верованиях мы найдем и то, и другое. В народных обычаях даже самых возвышенных теистических религий присутствует множество демонических черт. «Волшебство – дело плоти» [Гал. 5, 19-20], указывал апостол Павел, а плоть, понятно, обязательная составляющая человеческого существа. Но когда плоть выходит из повиновения духа, когда объявляет себя главенствующим, а то и единственным элементом человека, тогда для демонизма открываются широкие возможности, и общество постепенно из преимущественно теистического становится преимущественно демонистическим. Возможен и хорошо известен истории человечества импульс и противоположной направленности. Целый ряд типично домонистических сообществ по тем или иным причинам переходят решительно к теистической религиозности и сразу же возникает государственность, письменность, цивилизация. Германцы в VIII-IX веках, русские и поляки в X веке, шведы в XI веке, Литва – в XIV веке продемонстрировали эту закономерность, восприняв христианскую веру. Но и арабы, вняв проповеди Мухаммеда, за считанные десятилетия создали империю и культуру, о которых и не помышляли их отцы и деды, кланявшиеся камням и звездам небесным. Дравидские племена юга Декана, обитатели Цейлона и Явы, Камбоджи и Тьямпы, Японии и Кореи свидетельствуют о подобной же силе индуинизации и будцизации. В начале XX века в Африке к югу от Сахары число христиан среди коренных народов, за единственным исключением Эфиопии, вряд ли превышало миллион человек, примерно столько же среди них было мусульман. В конце 1960-х годов более 60 миллионов африканских аборигенов к югу от Сахары объявили себя христианами и столько же мусульманами. Процесс этот продолжается и ныне, причем нередки случаи перехода недавно обращенных христиан в ислам. Многие традиционные религии неписьменных народов полностью исчезли за последние 100-150 лет, так и не став объектом серьезных исследований. «Невозможно ныне описать дохристианские верования, например, готтентотов» – отмечает знаток африканских религий Е. Дж. Парриндер [308]. Приведет ли такая принципиальная смена религиозной парадигмы к утверждению прочной национальной государственности и письменной культуры в Черной Африке XXI века – покажет будущее. Но из опыта прошлого известно, что обычно теистическая религия не завершает здание молодой цивилизации, как пристало «идеологической надстройке», а ложится началом и основанием всего грядущего величественного построения. Но на первый вопрос, которым задались мы в начале главы, нам все же не удастся убедительно ответить. Проблема, почему один народ избирает теистическую веру, а живущий рядом с ним магическую, почему один находит в себе силы из мира духов вернуться к Богу, а другой и по сей день довольствуется духовным строем, в который их предки уклонились тысячелетия назад, предпочтя посюстороннюю безмятежность напряженным трудам ради победы над бременем греха, не пускающим человека к его небесному Отцу и Создателю, – проблема эта столь же неразрешима, как и простой на первый взгляд вопрос – почему один человек добр, а другой зол; один склонен к самопожертвованию, а другой видит в окружающих лишь средство для достижения собственных целей. Лекция 8. ШАМАНИЗМ Вступление Один современный ученый сказал как-то: «Магия – это наука джунглей», И действительно, с помощью магических приемов и действий внеисторический человек пытается воздействовать на мир с целью преобразить его. Мы знаем, что в отличие от науки, полагающей, что она воздействует на мир и человека с помощью подчиненных и осознанных безличных природных явлений, магия уверена в подчинении ей личных духовных существ, которые являются «хозяевами» этих явлений. Существа эти именуются духами. Во многих древних религиозных традициях их, наравне с БогомТворцом, называют «богами» (египетское – ntr, семитское – ilum, санскритское – deva). Даже в «Новом Завете» христиан эта традиция сохраняется: «Есть так называемые боги, или на небе, или на земле, – так как есть много богов и господ много, – но у нас один Бог Отец, из Которого все» [I Кор. 8, 5-6]. Если в современной науке творческий импульс овладения природой исходит от ученого – физика, медика, инженера, биолога, то в магии овладевает одушевленными силами природы, подчиняет себе духов колдун. За этим «научным сотрудником» джунглей в современном религиоведении закрепилось название шаман. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СМЫСЛ ПОНЯТИЯ ШАМАНИЗМ «Шаман, – писал Карл Густав Юнг, – своим знанием и своим искусством должен объяснять все неслыханное и ему противостоять. Он является ученым и вместе с тем архивариусом научных традиций племени, экспертом случая. Окруженный почтением и страхом, он пользуется огромным авторитетом, но все же не настолько большим, чтобы его племя не было в тайне убеждено, что в соседнем племени колдун все-таки лучше» [309]. «Главная суть шаманизма – наличие веры в духов, в возможность их подчинения шаманам, в способность последних в ходе камланий (термин, которым обозначается магическая шаманская практика, подробнее см. ниже. – А. З.)перемещаться в верхние и нижние миры, чтобы бороться и побеждать злых духов», – дает определение понятию шаманизм Анна Смоляк [310]. Необходимо, однако, подчеркнуть, что вера в духов присуща всем без исключения религиям мира. Особенность шаманизма не в этой вере самой по себе, но в убежденности и самих шаманов и их соплеменников в возможности и необходимости самостоятельной борьбы с одними духами в сотрудничестве с другими. Только человек, вынесший «за скобки» Бога-Творца, но сохранивший при этом веру в духов, нуждается в шаманизме. Человек теистической религиозности, сознавая, что духи такие же сотворенные существа, как и он сам, защищается от их вредоносных действий силой Божьей, равно как и ищет помощи добрых духов, призывая имя и их и своего Создателя. Понятно, что убежденный атеист равно безразличен и к духам и к Богу-Творцу и ищет устроения своей жизни только в использовании научных методов и знаний. Напротив, среди народов демонистического типа религиозности, не только шаманы, но и обычные их соплеменники всячески пытаются овладеть искусством управления духами, точно так же как и мы, не будучи медиками, даем своим заболевшим близким аспирин и валидол и, не являясь водопроводчиками, меняем прокладки в текущих кранах. «У нанайцев, ульчей и других народов Амура много простых людей нешаманов, которые также якобы умели общаться с духами», – отмечает А. Смоляк [311]. Собиратели орочских сказок В. А. Аврорин и Е. П. Лебедева [312] указывали, что «почти каждый взрослый ороч независимо от пола и возраста считал себя в какой-то степени шаманом». Среди якутов широко распространен обычай избавляться от бесплодия с помощью совокупления бесплодной женщины с духом лиственницы – арык иччитэ. «На тебя я позарилась, к тебе почувствовала любовную похоть. Нуждаюсь я в детях, дай мне твоего ребенка. Покумимся!» – произносит в тайне пришедшая в тайгу к заветному дереву женщина, и с дерева падает в чорон кумыса червячок, которого просительница выпивает вместе с кумысом и беременеет [313]. Подобных примеров можно привести множество. Шаман оказывается не какой-то противопоставленной всему обществу странной фигурой, подобно ведьме, магу или колдуну христианского средневековья, но лишь собирателем и проявителем тех настроений, которые в какой-то степени присущи всем представителям неписьменных народов. Откуда же происходит слово «шаман»? В русском языке слова «шаманить», «шаманский» встречаются в писаниях протопопа Аввакума [314]. Императрица Екатерина II даже одно из своих драматических произведений наименовала «Шаман». В русский язык слово «шаман» пришло из Сибири. Здесь, в тунгусских языках, оно означает именно мастера общения с духами – samana. Слово samanaне тунгусского происхождения. В китайском языке shamen – одновременно может означать и буддийского монаха и колдуна-повелителя духов. В Китай слово это пришло из Индии, видимо, вместе с буддизмом. А на древнем священном языке индоариев, на санскрите, sramana – означает «бродяга», «скиталец». Так издревле именовали в Индии странствующих аскетов-саньясинов. У казахов и киргизов прорицателей и целителей заклинаниями именуют баксы. У туркмен бакса – исполнитель народных песен и танцев. Однако у калмыков, монголов и маньчжуров бахши – лица высокого духовного звания; и есть все основания предполагать, что слово баксы, бахши [315]происходит от санскритского бхикшу – странника, то есть от имени, которым называли себя, начиная с самого Сиддхарты Гаутамы, буддийские монахи. Не только для дальневосточных, но и для центральноазиатских народов колдовство, знахарство оказалось генетически связано с идущей из Индии буддистской проповедью. У народов Северной Евразии понятие «шаман» обозначается различными словами: у якутов женщину-шаманку называют – udayan, а шамана мужчину – оуип, у бурят – utyyan к bo, уалтайцев шамана именуют kam, у ненцев – tadibey, у лапландцев – noid. Однако пришедшее из Южной Азии слово «шаман» намекает на многое. По всей видимости, бродячие проповедники и «старцы» Индии не всегда были проводниками теистических или агностических воззрений. Нередко они являлись обычными колдунами, магами, чародеями. Индийцы звали таких людей вратья, но сами маги предпочитали респектабельное наименование – «странник» – бхикшу, шрамана. Такие, прикидывающиеся аскетами колдуны, не ограничивались, видимо, землями к югу от Гималаев. Они шли в Тибет, в Китай, в Среднюю Азию. Своим искусствам они учили местных жителей. Скорее всего, именно так тунгусские колдуны стали прозываться шаманами, а казахские – баксы. Впрочем, движение из Индии в Сибирь слова шаман вовсе не означает, что сибирские народы не были знакомы в добудцийскую эпоху с самим явлением шаманизма. Есть все основания предполагать, что шаманизм – не заимствованное, а доморощенное, автохтонное явление духовной культуры. КТО ТАКОЙ – шаман? Сибирский и североевропейский шаманизм был научно описан уже в конце XVIII – начале XIX века и наименован «урало-угорской религией». Но к концу XIX столетия собрано много этнографических фактов, свидетельствующих о присутствии аналогичных шаманизму религиозных явлений у многих неписьменных народов как Старого так и Нового Света. Шаманы обладают искусством общения с духами не только в Сибири и Центральной Азии, но и в Северной и Южной Америке, в Океании, на островах Малайского архипелага, писал Мирча Элиаде в своей специальной работе по шаманизму [316]. Один из первых русских ученых, исследовавших феномен шаманизма, В. М. Михайловский, отмечал: «Мы имеем право говорить о шаманстве и шаманах у самых отдаленных народов, не имеющих по происхождению ничего общего с теми русскими инородцами, среди которых эти термины возникли или же приобрели права гражданства… При всей разнообразности племен и разбросанности по местностям, лежащим на большом расстоянии друг от друга, явления, носящие в этнографии общее название шаманства, повторяются с замечательной правильностью и последовательностью» [317]. Ныне эта точка зрения общепринята среди религиоведов. Русский исследователь религиозных представлений народов Малайзии и Западной Индонезии Е. В. Ревуненкова [318] без тени колебания именует шаманами халаков, похангов и дукунов – колдунов, практикующих среди племен внутренней Малайи и Суматры. Из местного, сибирского понятия шаманизм превратился в наименование одного из общечеловеческих типов религиозного поведения. Но как понимают исследователи сущность феномена шаманизма? Ученые довольно рано установили, что шаман вовсе не обязательно отрицает обычное жречество. Он прекрасно уживается с ним там, где оно существует. Но само жречество постепенно слабеет, деградирует от близости с шаманизмом. Жречество, как отмечалось уже в наших лекциях, среди современных неписьменных народов есть скорее всего пережиток той далекой эпохи, когда теизм еще не сменился магизмом, когда жрец связывал общину с Богом. Шаман занял в общине не место жреца, но место пророка. Говоря о южносуданских племенах нуэров, сэр Эванс-Притчард отмечал, что «через жреца человек обращается к Богу, а через пророка Бог говорит с человеком» [319]. Замечание это, казалось бы одинаково справедливо для всех религий, но из описаний самого британского ученого становится совершенно ясно, что нуэры почти забыли о Боге-Творце и живут в мире духов. Жрецы в установленные дни и в определенных обстоятельствах возносят молитвы и свершают жертвоприношения как Творцу мира, так и духам покровителям, а вот «пророки» активно вторгаются в области духов и не столько доводят их волю до общинников, сколько пытаются на волю эту воздействовать. «Пророки» нуэров на проверку оказываются типичными шаманами. «Шаман действует благодаря своей оккультной силе, заручившись помощью духов помощников, подчиняющихся его воле, а жрец – просто смиренный проситель, сам подчиняющийся духам; шаман действует от своего имени, благодаря своему личному могуществу, а жрец – официальный представитель общины в ее взаимоотношениях с духами. Камлания шамана просты и, как правило, ограничены небольшим кругом лиц, в то время как жрец руководит широкими, тщательно разработанными общественными церемониями» – указывал британский религиовед Г. Вебстер [320]. Научное открытие явления шаманства случилось в то время, когда западный мир переживал расцвет атеизма. Признать шаманизм – значило признать реальность существования духовных сил, которые наука XIX века отрицала со всей решительностью. Но факты шаманского камлания, впадения шамана в транс были многократно описаны. Объявить все это иллюзией не было никакой возможности. И тогда шаманизм был сочтен психической болезнью. «Взгляд на шамана как на человека нервно или психически больного стал почти общепризнанным в науке, и само возникновение шаманизма стало мыслиться как результат отклонений в психике» – отмечала Е. Ревуненкова в обзоре литературы по шаманству [321]. Именно так объясняется феномен шаманизма в «Энциклопедии Религии и Этики» [322]. В работе, посвященной шаманизму в Ост-Индии, голландский ученый Г. Вилкен писал: «Шаман – это личность больная, слабая, страдающая нервным заболеванием и часто – безумием… Шаманский экстаз принадлежит к истериоидной эпилепсии и к гипнозу, определенно – к сомнамбулизму» [323]. Характерная для первой половины XX столетия, эта точка зрения может встретиться и сейчас в зарубежном религиоведении [324]. Но особенно была она присуща советской науке. «Что нервнобольные в Сибири – шаманы, всем известно и в особых доказательствах не нуждается» – безоговорочно утверждал в 1936 году Д. К. Зеленин [325]. А ставший впоследствии видным представителем советской этнографической науки В. Г. Богораз еще в 1910 году писал в журнале «Этнографическое обозрение»: «Изучая шаманство, мы прежде всего наталкиваемся на целые категории мужчин и женщин, больных нервной возбудимостью, порой явно ненормальных или совсем сумасшедших… Во всяком случае при изучении шаманства нельзя забывать, что это – форма религии, созданная подбором людей наиболее нервно неустойчивых» [326]. Датский религиовед О. Ольмаркс даже определил диагноз болезни, которой страдают шаманы, а заодно и их обычные соплеменники. Это, по его мнению, действительно известная среди народов Севера «полярная истерия» [327]. Но как объяснить в таком случае шаманизм у народов средних и экваториальных широт? А он по своим формам и проявлениям почти не отличим от полярного. Исследования русского этнолога С. М. Широкогорова, работавшего в Дальневосточной республике в 1919-1920 гг., а потом в эмиграции в Северном Китае, остались практически неизвестны мировой религиоведческой науке, а между тем он во времена всеобщей убежденности в психической ненормальности шамана утверждал, что тунгусский шаман вполне здоровый и полноценный человек, скорее психотерапевт, нежели сумасшедший [328]. Несколько десятилетий спустя эту мысль высказал видимо никогда не читавший Широкогорова К. Леви-Стросс [329]. Во второй половине XX века, во многом благодаря работам М. Элиаде, отношение к феномену шаманства претерпевает изменение. Элиаде настаивает во всех своих исследованиях, что мнение о шаманстве как о психической болезни совершенно не верно. В период шаманской инициации [330] посвящаемый имеет вид душевнобольного, – подчеркивает М. Элиаде, – но когда посвящение позади, шаман более крепок, здоров и памятлив, чем иные люди его племени. Признаки эпилепсии и других душевных болезней, отмечающих призвание в шаманство, изглаживаются после посвящения. У якутов, отмечает ученый, словарь шамана 12 тысяч слов, а у обычного якута – лишь около 4 тысяч; у бурятов шаманы – основные хранители устной народной поэзии [331]. О том же свидетельствует и Анна Смоляк: «Шаманы нанайцев и ульчей в большинстве случаев были уважаемыми односельчанами людьми… все они – сильные, волевые люди, во многом сведущие, опытные в житейских делах, в промыслах» [332]. Шаман безусловно выходит из социальной нормы своего общества, и в этом смысле он ненормален. Но скорее всего правы те ученые, которые настаивают на его психическом здоровье. Трудно представить, что все множество сообществ шаманского типа, существующих по всему земному шару, состоят из душевнобольных людей. Ведь не только сам шаман, но и его соплеменники, коль скоро они верят ему и в его камлания, должны иметь сходный психический строй. А если шаман – шизофреник, то и всему племени, нуждающемуся в шамане, присуща ***. Шизофрению и истерию шаману может приписать только исследователь, который отрицает существование духовного мира, не верит в личных волевых духов. Но весь парадокс шаманства в том и состоит, что только действительное существование духов дает смысл существованию института шаманства. Мы можем отрицать бытие демонов, но и шаман и его соплеменники всецело верят в них. Считать их всех на этом основании сумасшедшими не больше причин, чем атеисту полагать безумцем любого христианина, участвующего в евхаристическом таинстве. А ежели признать хотя бы субъективную реальность духовного мира, то тогда феномен шаманства становится легко объяснимым: Общаясь каждодневно с духами, принимая их в себя, восходя и нисходя в их обители, шаман обязательно будет казаться «странным», «одержимым», «экстатичным». Такой он и есть. Но странность и одержимость объясняются его принадлежностью одновременно к двум мирам - миру человеческому и миру демоническому. Сам шаман и его соплеменники уверены в этомбезусловно. КТО И КАК СТАНОВИТСЯ ШАМАНОМ Исследователь религиозных верований и практик сибирских эскимосов Т. С. Теин так описывает мотивы, побуждающие обычного человека стать шаманом: «Шаманами становились эскимосы при следующих обстоятельствах. Одинокий охотник в безлюдном месте слышит, что его кто-то зовет, называя по имени, слышит таинственные голоса – кто-то поет… Иногда эскимос видел сон, во время которого разговаривал со своими будущими духами. Духи могут говорить на любом языке. Во сне они являются в виде красивых людей, в такой же одежде, какую носят живые люди… Обычно дух предлагает охотнику стать его (духа) кормильцем (кормят их при помощи жертвоприношений). После такого сна охотник начинает слышать голос и песни, исполняемые его будущим духом. В дальнейшем этой песней он будет вызывать своего духа. После такого сновидения охотник обращается к шаману и рассказывает ему о виденном во сне. Шаман с помощью своих духов узнает, кто выбрал охотника посредником с живыми людьми» [333]. Хотя шаман и является весьма почтенным членом своего коллектива, он, как правило, не отличается от прочих соплеменников ни зажиточностью, ни властными возможностями. Первые послереволюционные переписи установили, что шаманы обычно являются бедняками. Это было характерно для большинства народов Сибири и Европейского Севера России. Причину этого, странного на первый взгляд, факта, хорошо объяснила в 1972 году Анне Смоляк пятидесятилетняя дочь шамана С. П. Сайгора: «Отец совсем разоряется, приезжают из разных сел, просят шаманить, отказываться нельзя; не рыбачит, не готовит дрова – только шаманит. Потом угощаются. Дни проходят, время идет, сейчас самый ход рыбы, запасов на год не делает. Придет время – ему нужно будет расплачиваться со своими духами – сэвэн, угощать их. Всё на свои средства, а это стоит дорого. Никому до этого нет дела» [334]. «От вступления в шаманскую деятельность старались избавиться абсолютно все, – констатирует Анна Смоляк. – Это объясняли тем, что шаман не принадлежит себе, что по первому зову он обязан идти на помощь больному» [335]. Правило это всеобще. К шаману обращаются за помощью в любое время, как у нас порой обращаются к врачу. И хотя шаман не связан клятвой Гиппократа, он также как и врач не может отказать в просимом, а соглашаться должен немедленно. К этому, как единодушно утверждают сибирские аборигены, шаманов побуждают их духи-помощники. Часто шаману вовсе ничего не дают за его «услуги» или плата является чисто символической. И уж в любом случае не полагается заранее условливаться о «размерах благодарности». Как правило, живя в бедности, в системе натурального хозяйства, соплеменники шамана и не могут изыскать средств для должной компенсации. Но помимо всего прочего люди, составляющие неписьменные сообщества, кажется убеждены, что шаман обязан их обслуживать, что шаманство – не столько профессия, сколько призвание и мастерство – Beruf и ?????. «Частое присутствие на камланиях, казалось бы, могло стать для иных лиц настоящей школой и действительно некоторые, интересующиеся этими вопросами, становились подлинными знатоками шаманства… Например, Ф. К. Онинка, слепой нанаец из села Хаю…, рассказывал, что с юношеских лет любил бывать на камланиях, если что-то было неясно, задавал шаманам вопросы, подолгу беседовал с ними. Постепенно он стал прекрасным знатоком в этой области, но сам никогда не шаманил, даже не делал попыток. Петь различные «мотивы» умел, имел хороший голос. Такие люди никогда сами не становились шаманами: стать шаманом «по желанию» было невозможно (да никто и не хотел). Духи приходили к человеку сами, не подчиняясь ничьей воле, в этом были уверены все» – рассказывает А. Смоляк [336]. Современное шамановедение [337] различно объясняет сущность общения шамана с духами. Одни (Э. Арбманн, Ж. Пуйон, Дж. Льюис) уверены в том, что шаман – хозяин духов, их господин; другие (X. Финдзейн, К. Хэмфри) – что он – утративший собственную личность раб демонов. «Тот, кто способен к контролируемой одержимости, становится господином духов и известен в Арктике как шаман» – утверждают первые [338] «Существенным фактором является вера в то, что личность подверглась «вторжению» сверхъестественного существа и что временно она находится вне самоконтроля, «Я» подчинено влиянию «вторгшейся силы» – полагают вторые [339]. Этнографический материал говорит о верности обоих утверждений. Шаман может быть и игралищем духов и их повелителем. Но стать шаманом против воли духов невозможно – с этим согласны все приверженцы шаманства. Не люди выбирают духов, но духи избирают людей. «Решающим условием становления халака (шаман у семангов Малайи. – А. З.)независимо от того, передается ли эта профессия по наследству или нет, является сон, в котором будущий шаман видит, что он встречается с тигром или с верховным божеством Так Перном» – пишет Е. В. Ревуненкова [340]. Призвание к шаманству во сне распространено повсеместно [341], но редко сном все и ограничивается. А. Шренк обнаружил факт насылаемой духами шаманской болезни у ненцев задолго до описания этого феномена религиоведами. Путешественник отмечал: «Они являются ему в различных видах, как во сне, так и наяву, терзают душу его разными заботами и опасениями, особенно в уединенных местах, и не отстают от него до тех пор, пока он, не видя более никаких средств идти против воли божества, не сознает, наконец, своего призвания и не решится последовать ему» [342]. Современный исследователь религиозных практик ненцев резюмирует это замечание полуторовековой давности: «Для того, чтобы стать шаманом, недостаточно было иметь среди предков шамана, нужно было активное вмешательство духов, которые понуждали данного человека к шаманской деятельности. Шаманское звание принималось не с радостью, а как тяжкое бремя» [343]. Русский исследователь Сибири Вильгельм Радлов (1837-1918) описал шаманское призвание у алтайцев еще в 1870-е годы: «Способность к шаманскому действу, знание его является наследственным… При этом будущий шаман не получает от отца ни уроков, ни наставлений, он и не готовится к этому занятию – нет, шаманская сила приходит к нему внезапно, как болезнь, которая охватывает всего человека. Лицо, которому благодаря силе предков предназначено быть шаманом, внезапно ощущает во всем теле изнеможение и слабость, дающие знать о себе сильной дрожью. На него нападает неестественно сильная зевота, он испытывает огромную тяжесть в груди, что-то заставляет его внезапно издавать громкие нечленораздельные крики, его сотрясает озноб, он быстро вращает глазами, внезапно вскакивает и кружится как одержимый, пока, весь в поту, не падает и не начинает кататься по земле в эпилептических конвульсиях и судорогах. Его конечности ничего не ощущают, он хватает все, что попадает ему под руку, и непроизвольно проглатывает все то, что он схватил, – раскаленное железо, ножи, гвозди, топоры, причем это не причиняет ему никакого вреда. Через некоторое время он отрыгивает все проглоченное сухим и невредимым. (Я все это знаю, разумеется, лишь понаслышке, хотя и от лиц, всецело заслуживающих доверия)» [344]. Современные отечественные исследователи подтверждают сведения, собранные В. Радловым. Шаманство обычно передается по родству, чаще по отцовской линии, но совсем не обязательно и даже довольно редко от родителей к детям. Обычно профессию умершего шамана наследует кто-то из его ближайших родственников. Но случается, что шаманом становится человек, в роде которого шаманов никогда не было. Таких шаманов-parvenu в Сибири единодушно полагают слабыми. У ибанов Калимантана шаман – манат во сне призывается духами. Это, как указывает Е. Ревуненкова, обычно родственник действующего мананга. Получив приказ, он прощается с близкими и идет на выучку к опытному манангу. Сами шаманисты объясняют родовое преемство вполне для себя убедительно. Когда умирает шаман, его обычная душа панян отправляется в загробный мир – були. Так же поступает через год и другая душа – упса, до того живущая близ могилы. А вот шаманское родовое сердце – пута, остается на земле и ищет себе нового хозяина среди родственников умершего. Пута - это дух, демонхранитель шамана. Он привык к тому, что о нем заботятся, его «кормят». Он, шаманский дух, «любил тело, кровь и запах умершего шамана», а потому предпочитает и дальше жить среди кровных родственников покойного. «Вначале пута в виде духов маси и бучу длительное время находилась у духа хозяина земли На Эдени, либо у духа тайги Дуэптэ Эдени, редко у небесного духа Эпдури. Через некоторое время пута приходила к одному из потомков шамана, заставляла его становиться шаманом. В результате посвящения она становилась его душой» – объясняли Анне Смоляк нанайцы [345]. Поскольку шаманство причиняет значительно больше неудобств, чем дает преимуществ, и шаманства никогда почти не ищут, пута должна заставить человека принять ее в себя. Такое согласие редко дается без борьбы. Странное поведение человека, которого духи призывают к шаманству, и получило наименование «шаманская болезнь». «Нежелание следовать воле духов вызывает гнев и с их стороны, и со стороны общины» – констатирует Ревуненкова [346]. Призвание к шаманству обычно проходит в два этапа. На первом призываемый не испытывает особых субъективных страданий, хотя внешне его поведение становится совершенно аномальным. Он не чувствует боли от огня или от порезов ножом, убегает в горы, бродит там неделями, питаясь сырым мясом лесных зверей и птиц, которых он живьем рвет на части. Холод, снег не причиняют ему беспокойства. Иногда в собственном доме или в лесу такой человек погружается в многодневный сон и во сне поет как шаман, зовет по имени духов. «У всех призвание к шаманской деятельности выражалось в длительном специфическом заболевании. О его симптомах нам рассказывали многие» – замечает Анна Смоляк [347]. Призвание в шаманы внешне напоминает тяжелую душевную болезнь. Ученые долгое время не сомневались, что имеют дело с шизофренией или с параноидальным эпилепсоидным синдромом. «Момент шаманского «призвания», субъективно осознаваемый как голос духов, требующий от человека вступления в шаманскую профессию, – писал видный советский специалист по «примитивным религиям» С. А. Токарев, – есть объективно нервное заболевание, которое, кстати, по большей части постигает человека в период полового созревания… Шаманская профессия усиливает нервно-патологические особенности характера человека, самые же эти особенности предшествуют вступлению человека в профессию шамана» [348]. Однако для ума религиозного демоническое одержание, то есть власть духов над душой человека, вполне может рассматриваться как причина психической болезни. Вот, например, характерный рассказ, имеющийся в трех Евангелиях: «Один из народа сказал [Иисусу Христу. – A.3.]…, Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет… Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привел его к Нему. Как скоро увидел Его бесноватый, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам» [Мк. 9, 17-22]. Этот рассказ весьма напоминает картину мучений будущего шамана, классические симптомы «шаманской болезни», описанные множество раз этнографами и путешественниками. Так что, если шаманское призвание и полагать болезнью, то скорее не физической, а демонической. «Объяснение болезни вселением духа относится к области культуры, а не патологии» – точно указала исследователь сибирского шаманизма Елена Новик [349]. Ученый религиовед не вправе подвергать сомнению объективность религиозных воззрений изучаемого им общества, исходя из собственного религиозного опыта или из отсутствия такового. Религиозные представления суть культурная реальность и пытаться превратить их в реальность натурфилософскую не просто опасно, но вполне губительно для предмета исследований. Именно в этом последнем случае шаманизм сознается душевной болезнью, а то и любая религия – психической аномалией. Итак, для шаманистов шаманская болезнь [350] (в этнографии она порой именуется мэнэрик или эмеряченье)является духовным одержанием. Странности поведения указывают и самому больному и его соплеменникам, что он предызбран духами стать шаманом. Если избранник соглашается, к нему приходят шаманы и совершают обряда посвящения. Если же человек упорствует в нежелании возложить на себя шаманское бремя, отвергает призывы духов, то страдания его, усиливаясь, становятся почти непереносимыми. Шаманская болезнь из стадии призывания духами переходит в стадию жесткого принуждения. «Если предназначенный для шаманства человек противится воле предков и отказывается камлать, он подвергается страшным мучениям, которые кончаются тем, что либо он вообще теряет все душевные силы, то есть становится слабоумным и ко всему безразличным, либо впадает в буйное помешательство и обычно вскоре кончает с собой или умирает во время сильнейшего припадка» – указывал В. Радлов [351]. Этнограф наших дней менее категоричен, но, в сущности, Анна Смоляк говорит о том же, что отмечал исследователь алтайского шаманства 150 лет назад: «Шаманами становились в 35-40 лет и старше. До становления будущий шаман длительное время боролся с духами, мучившими его, этот период (принуждения. – А. З.)иногда затягивался на многие годы» [352]. Если учесть, что по сообщениям большинства шаманологов «шаманом человеку определено стать уже при рождении» [353] и что первые явные призывания «на службу» духи делают, когда избранник только начинает осознавать себя свободной волевой личностью, то есть когда ребенку от 8 до 15 лет, то можно себе представить сколь долгой и упорной бывает борьба человека с желающими «сотрудничать» с ним духами. «Нам говорили, – резюмирует Анна Смоляк, – что отдельным лицам, больным шаманской болезнью, удавалось избавиться от домогательств духов, не становясь при этом шаманами. По утверждению нанайцев, таких случаев было очень мало, эти люди были «очень сильны духом» [354]. ШАМАНСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ Если же человек не выдерживает страданий шаманской болезни и соглашается на домагательства демонов, то, как правило, ему, дабы стать настоящим шаманом, необходимо пройти обряд шаманской инициации. Даже в тех случаях, когда призвание духами происходит в совершенно явной форме (удар молнии, падение с высокого дерева или скалы, пребывание без вреда для здоровья в ледяной воде в течение нескольких дней – все эти случаи зафиксированы этнографами), формальное посвящение от людей принять все же нужно. Общение с духами невозможно без добровольного согласия человека – согласия, которое он должен явить перед иными людьми. По убеждению сибирских шаманистов, призванный духами, но не прошедший инициации шаман, останется «слабым» и будет подвергаться множеству опасностей от зловредных демонов. Внешний ход шаманского посвящения описан многократно. Так, у бурят в юрте посвящаемого шамана устанавливается срубленная береза с кроной, вылезающей из дымового отверстия. Это навсегда будет отличительным знаком, что в юрте живет шаман. Объясняя этот обычай, М. Элиаде указывает, что береза в доме, вылезающая из дымохода, есть символ мирового древа, разрывающего границы нашего мира и достигающего Верхнего Неба [355]. Шаманская береза именуется бурятами udesiburkhan – «хранитель врат [неба]». Вновь посвящаемый залезает на эту березу до верха по девяти вырубленным в стволе ступеням (символ девяти небес) и пролезает в дымовое отверстие, то есть как бы достигает неба. В течение всего этого обряда рядом с юртой посвящаемого присутствует старый шаман. Затем оба шамана и весь участвующий в посвящении народ уходят из деревни в тайгу или на сопки в поисках подходящей живой березы (по сибирским представлениям береза – небесное дерево, в отличие от ели – древа подземного царства). Когда такую березу находят (молодой шаман часто видит «свое» дерево в сновидениях и потому довольно уверенно ведет к нему народ), сначала на нее влезает старый шаман и срезает девять ветвей, затем то же делает вновь посвящаемый. У корней березы в жертву приносится козел, кровью которого мажут глаза, уши и верх головы неофита [356]. Оба шамана после этого впадают в транс и начинают камлать. Перед посвящением, как сообщает М. Элиаде, желающий пройти инициацию несколько времени соблюдает пищевой пост и половое воздержание, что символизирует его отрешенность от земной жизни и готовность перейти в мир духов [357]. У нанайцев посвящение проходило иначе. Посвящаемый обычно испытывал тяжкие страдания от приступов шаманской болезни. Часто он даже не мог стоять без посторонней помощи. Приглашенный к больному опытный шаман тут же понимал, что речь идет не об обычной болезни, но о призвании на шаманский путь. Он велел изготовить для больного деревянную фигурку духа – аями. Ее ставили на настил в доме больного и все присутствующие танцевали, поочередно надевая шаманский пояс и беря в руки бубен. Они призывали духа, мучившего больного, войти в фигурку. Наконец начинал камлать старый шаман и он вселял аями и кормил его. Больной глубоко переживал происходившее. Порой он вскакивал, кружился по комнате, пел по-шамански, нередко падал на мгновение без чувств, затем в изнеможении засыпал. На следующее утро обряд вступал в главную фазу. Старый шаман в полном облачении вставал впереди посвящаемого. От пояса старого шамана тонкий ремень соона тянулся до идольчика аями, а от фигурки второй ремень шел к поясу неофита. Обычно, как указывает Анна Смоляк, посвящаемый находится в это время в расслабленном состоянии. Однако ему в руки вкладывают бубен и колотушку, и оба шамана так связанные через аями обходят сначала жилище неофита, а затем и все дома селения. В каждом доме их угощают кипяченой водой с листиками багульника (растения духов по шаманским представлениям), демонстрируя этим свое соучастие в обряде посвящения. В начале вновь посвящаемый не может идти самостоятельно, и его ведут под руки. Старый шаман постоянно поет шаманские гимны, «шаманит», и все чаще неофит повторяет его действия. Наконец соону отвязывают от пояса старого шамана, человек, поддерживавший фигурку аями, все более ускоряет шаг, затем бежит, и неофит, привязанный ремнем к фигурке, вынужден бежать следом. Ноги его укрепляются, тело преисполняется силы, он ощущает себя вполне здоровым и, как правило, действительно выздоравливает. Если же болезнь повторяется, то обряд повторяют с новой фигуркой аями. В этом случае не один, а два духа желают быть с посвященным шаманом и всех их надо вселить в идольчики и «приручить». Лишь полное исцеление свидетельствует о том, что посвящаемый стал шаманом, обрел духов-помощников и может шаманить. Изредка духи оставляют человека так и не вселившись в него. Такой человек весьма уважаем – он победил духов и отстоял свое право не быть шаманом. В той степени, в какой мы можем понять символику нанайского обряда шаманской инициации, мы замечаем, что речь в нем идет об установлении прочной связи духа и человека, о создании своеобразного антропо-демонического симбиоза. Внешне это сожительство (?????????) будет выражаться в том, что шаман начнет регулярно кормить духа, поднося угощения идольчику-аями, а дух станет помогать шаману во время камланий, предупреждать его об опасностях и кознях враждебных шаманов и духов. Та связь между духом и человеком, которая в обряде посвящения символически изображалась ремешком соона, станет очень прочной и пожизненной. Если шаман прекращает кормить своих духов, его залеченная болезнь, как правило, возвращается. Анна Смоляк [358] рассказывает: «Нанайка Б. М. еще в молодости переселилась в среду ульчей (селение Булава). Она сильно болела, и в 1949 году ее посвятили в шаманы (у нее была шаманская родословная), сделали фигурку аями, которую она три-четыре года кормила (шаманила для себя), а потом бросила. В конце 1960-х годов к ней снова стали приходить духи. В 1973 году в Нанайском районе она прошла новый обряд посвящения (я наблюдала его)» [359]. Иногда, как, например, у бурят и шорцев, обряд шаманского посвящения внешне оформляется как свадебное торжество. Шаман в это время именуется кюзе - зять, жених, а материальным образом духа-невесты является шаманский бубен, который тюркишорцы в данном случае называют кыс – девица. Видный исследователь народов Севера Л. Я. Штернберг подробно описывает этот обряд во множестве черт, вплоть до уплаты калыма и похищения невесты воспроизводящий брачную церемонию, и заключает: «Самая свадьба, которая является моментом публичного вступления шамана в свою должность, происходит ранней весной, при особенно торжественной процедуре, символизирующей, как у бурят, восхождение шамана на небо за невестой… Завершается все это общим пиршеством, которое, как и свадьба, носит названиеtoj» [360]. Штернберг, увлеченный модными в начале XX века фрейдистскими идеями, видел в этом браке с «небесной невестой» банальный сексуальный подтекст. Однако, скорее всего, главенствует в обряде не сублимация полового влечения шамана, а символическое уподобление общения шамана с духом-помощником земному браку. Образ брака, в котором два различных существа становятся одним целым, не теряя при том и своего индивидуального своеобразия, в религиозном символизме используется очень широко. Но если в теистических религиях речь идет о единении в результате брака с божеством, то в шаманизме целью небесной свадьбы является демонизация человека. В обрядах шаманского посвящения часто используется и иной, излюбленный, кажется, всеми без исключения религиозными традициями символ – символ нового рождения. Судя по всему, он особенно разработан в бурятской шаманской инициации. Знаток обычаев бурятского народа М. Н. Хангалов сообщает, что в обряде посвящения неофит представлял себя зародышем в материнской утробе, а посвящающий «шаман-отец» переживал себя матерью. Шапки обоих шаманов во время обряда были соединены красной шелковой нитью, означающей пуповину. После завершения обряда нового шамана на войлоке выносят из «балагана» (лесное зимовье охотников), так как он изображает не умеющего ходить новорожденного. Его, как новорожденного, обмывают водой, затем отвязывают нить от шапки «шамана-отца» и привязывают второй, свободный конец к шапке неофита. «Это означает, что молодой шаман вышел из утробы матери и пупок оторван» – объясняет Хангалов [361]. Рождение шамана состоялось. Может показаться, что в рассказе Хангалова символика родин воспроизводит рождение ученика от учителя – образ также часто появляющийся в различных религиозных традициях: «Учитель, посвящая в ученики, внутри своего чрева творит брахмачарина (ученика брахмана в индийских религиях. – А. З.). Его он носит в животе три ночи. На рождение посмотреть собираются боги» – повествует Атхарваведа [11.5.3] [362]. Усвоив вместе с буддизмом довольно многое из индийской религиозной культуры, буряты возможно и в шаманской инициации что-то сохранили от рождения гуру брахмачарина, как сохранили некоторые народы Сибири само слово sramana. Но и слово, и символ рождения на севере Евразии употребляют совсем в ином смысле, чем на индийском субконтиненте. Здесь, в Бурятии, один шаман передает другому не себя, не свою личность, но духа-помощника, аями, идольчик которого и находится во время совершения посвятительного обряда между посвящающим и посвящаемым. В другой момент шаманской инициации у бурят неофит, карабкаясь по поставленной в юрте березе, пролезает через дымовое отверстие и оказывается вне дома. Этот момент, безусловно, означает новое, неземное рождение посвящаемого. Что же это за мир, в который рождается молодой шаман? Некоторые тайные обрядовые действия и объяснения самих посвященных позволяют несколько глубже проникнуть во внутренний смысл шаманской инициации. ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ШАМАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ Информанты – ульчи рассказывали Анне Смоляк, что кроме обычной души паняи и души укса, остающейся с телом умершего до обряда больших поминок касаты, только шаманы, да и то не все, но лишь «сильные», обладают еще и особой «шаманской душой» пуша. «Пута - главный ум шамана»; «пута – самое близкое, внутреннее»; «пута – сердце». «Раньше, когда шаманы умирали, – объяснял в 1959 году Анне Смоляк знаток шаманства ульч Алтаки Ольчи, – душа панян отправлялась в загробный мир були, душа укса оставалась в могиле целый год, а затем самостоятельно добиралась до загробного мира. Душа пута оставалась на земле, искала себе хозяев среди родственников умерших» [363]. У нанайцев эту «шаманскую душу» именовали нёукта. «О душе нёукта говорили, что она могла рассердиться на своего хозяина-шамана и покинуть его. Чаще всего это случалось, когда хозяин забывал кормить нёукта вовремя. И нёукта всегда покидала шамана незадолго до его смерти» [364]. Столь странное поведение «шаманской души» становится понятным, если вслушаться в объяснения нанайцев и ульчей относительно природы nyma-нёукта. По словам нанайского шамана Моло Онинки, его главные духи-помощники – Энин Мама, Сэнггэ Мама, Удир Энин и являются его нёукта. «Лута – это два духасэвэн – маси и бучу»; «Пута – главный сэвэн» – объясняли ульчские шаманы. Оказывается, пута-нёукта - это вовсе не одна из «естественных душ», в множественности которых уверены шаманисты, но дух-помощник или даже несколько духов, полностью заместивших или вытеснивших «из сердца» на окраины личности обычную человеческую душу панян. Такое вытеснение происходит во время шаманского посвящения. Борение «шаманской болезни», всегда предшествующее инициации, оказывается сопротивлением естественной человеческой души поползновениям духов, жаждущих установить свою власть над личностью. Однако власть эта всегда утверждается на добровольном согласии самого человека. Духи понуждают своего «избранника» подчиниться им, мучают его душевно и телесно, но без волевого акта согласия человека и духа замещения панян на нёукта не происходит, шаманский дух не становится на место души человеческой. Инициация шамана оказывается не только рождением в мир духов, не только браком с демоном, но и изгнанием личностной души человека. Только когда нёукта-пута уходил от умирающего шамана, его человеческая душа – панян возвращалась. С ней и совершали все погребальные и заупокойные обряды, как с душой простого умершего человека [365]. У эскимосов «сила» шамана, то есть мощь симбиотически сосуществующих с ним духов-помощников прямо связывалась с его возрастом и здоровьем, а символически являла себя степенью сохранности зубов колдуна. «По мнению эскимосов, сила шамана и шаманки заключалась также в сохранности у них зубов. Заклинания беззубого шамана были самыми слабыми. Крепкие и острые зубы будто помогали шаману и придавали ему силу во время шаманских сеансов… К старости шаман вообще терял силу» [366]. Немощное дряхлеющее естество оказывалось ненужным духам. Используя человека в течение его жизни, духи оставляли его один на один со смертью и искали себе нового вместилища. Именно замещение души на демона в ходе шаманской инициации объясняет тот примечательный и общепризнанный сибирскими шаманистами факт, что никакого обучения неофит не проходит. Старый шаман только посвящает его, соединяя с неофитом духов-помощников. Вся же «шаманская наука» преподается непосредственно духами. «Наши вопросы об обучении шамана шаманству вызывали недоумение у нанайцев и ульчей. Как только больного (шаманской болезнью. – А. З.)посвятили в шаманы, он уже считался потенциальным шаманом, хотя и не сразу к нему шли за помощью» [367]. Даже у тех народов Сибири (алтайцев, шорцев, якутов), где какая-то практика обучения шаманскому ремеслу все же имеется, она, по твердому убеждению самих шаманистов, носит исключительно «прикладной» характер. Всему действительно существенному шамана всегда обучают сами духи. Буряты верят, что во время инициации душа неофита восхищается в «мир богов», где боги и шаманы-предки сообщают ей тайные знания – настоящие имена богов и правила их призывания. Для посвящения австралийского знахаря-шамана считается необходимым, чтобы он в течение двух-трех дней беспробудно спал. Душа его в это время остается в царстве духов, получая все необходимые знания. Кондский колдун от 1 до 14 дней спит перед своим посвящением, пока душа его «обучается» на небе. У гренландских эскимосов-ангеконов новый шаман с той же целью посещает демонов племени [368]. Пребывание в мире «предков и богов» отнюдь не ограничивается простым «сообщением информации». Более того, по словам большинства информантов там также ничему не учат, по крайней мере, принятым здесь образом. Посвящаемого не учили, его преображали. По убеждению большинства сибирских аборигенов, духи и предки тем или иным способом полностью меняли у неофита тело. Его или расчленяли и пожирали «боги», или перековывали «небесные кузнецы», или варили в котлах. Иногда рассказывают, что под кожу посвящаемому духи вводят колдовские камни, запускают змей, червей, личинки жуков, вставляют в скелет особую «шаманскую кость». Особенно хорошо изучены, главным образом благодаря этнографическим изысканиям А. А. Попова, представления о «переделке тела» у якутов и нганасан. Авамский самоед (то есть нганасан) сообщал Попову, что ребенком он умирал от оспы и он помнит, как родители уже готовили ему погребение. Вдруг он увидел, что сходит в «нижний мир». Там он долго путешествовал, бродил по горам, пересекал полноводные реки. Наконец он добрался до острова, на котором росла гигантская береза, кроной своей достигавшая неба. «Владыка Земли» дал ему ветвь с этой березы для изготовления колотушки шаманского бубна. Затем в горах он встретил человека, что-то варившего в котле, и шептавшего над варевом «шаманские слова». Поймав ребенка, «повар» повесил его на крюк, расчленил тело и сварил в котле, предварительно отделив голову. Тело варилось три года, а голова смотрела на это. Наконец, «повар» извлек из котла кости, покрыл их новой плотью и «приковал» голову. Только после этого различные божества сообщили информанту Попова [369] шаманские знания. Приведенный рассказ нганасанского шамана отнюдь не является «индивидуальным параноидальным бредом пубертатного возраста», как сказал бы этнограф, видящий в шаманизме исключительно душевное заболевание. Напротив, это очень характерная повесть, отраженная не только в фольклоре, но и в обрядовой практике восточносибирских шаманистов. «Шаман в трансе умирает, его тело расчленяется, мясо счищается до скелета, мозг изымается и заменяется. Демоны часто варят его мясо в котле и, как правило, каждый дух получает по частице этой плоти. Кости шамана пересчитываются. В это время дух неофита пребывает в небесных сферах» – обобщает представления шаманистов М. Элиаде [370]. На второй степени посвящения ибанского шамана (ибаны или морские даяки населяют северную часть острова Калимантан), которая именуется беклити – открытие, инициируемому одевают на голову скорлупу кокосового ореха и затем раскалывают ее сильным ударом. «Это символическое действие должно означать, – объясняет Елена Ревуненкова, – что будущему манангу отрезали голову, вынули мозг и промыли его, чтобы придать ясность уму и способность проникать в тайны…» [371]. Виденье собственного тела, расчленяемого и расхищаемого демонами, – также одна из особенностей шаманского посвящения. Буряты и тунгусы считают, что шаманы-предки, вводя неофита в транс, срезают с него плоть и варят ее; алтайцы убеждены, что духи предков едят мясо и пьют кровь проходящего инициацию; у гренландских эскимосов имеется поверье, что в и*глу, где глубоким сном спит посвящаемый, входит великий предок в облике громадного белого медведя и пожирает его тело. У австралийского племени аранда бытует рассказ, что во время обряда инициации мальчиков дух Tuanjirakaотрезает головы неофитов, символом чего является обрезанье крайней плоти жрецами. Во всех случаях при завершении посвятительных обрядов плоть восстанавливается, голова возвращается на ее законное место, шаман внешне вновь неотличим от обычного человека, но теперь он обладатель новой плоти и нового ума. Эти представления отразились и в инициационных обрядах, которые у якутов так даже и назывались эттиэтии – «рассекание тела». «Обряд совершался в лесу или в юрте. Когда наступал срок «рассекания», который знал сам посвящаемый в шаманы, в лесу, в глухой местности строили урасу. Эту урасу должны были строить или сам шаман, или молодые, еще не женившиеся парни. Место, где стоит ураса, никто не должен был навещать. Когда «рассекание» тела будущего шамана происходило в юрте, также соблюдался целый ряд правил. Посвящаемый в шаманы лежал на правой наре юрты. Во дворе от окна, около которого лежал будущий шаман, до скотного загона строили изгородь, чтобы никто и ничто «из имеющих ноги» не проходил с наружной стороны юрты мимо места, где находится его лежанка. В юрте люди не должны были проходить между нарой и очагом. При обряде «рассекания» шаман лежал в обморочном состоянии, изо рта у него будто бы обильно выступала белая пена, из всех суставов проступала и струилась кровь, все его тело покрывалось сильными кровоподтеками. В таком состоянии посвящаемый лежал, согласно большинству сообщений, три дня. Наряду с этим есть упоминания о том, что он лежал четыре, пять, семь или десять суток. В это время ухаживать за будущим шаманом могли только «отрок, ни с чем нечистым, греховным не знакомый», или «чистая девушка, еще не познавшая мужчину». Соблюдались ограничения в еде: по одним данным посвящаемому давали «одну черную воду», а по другим – он ничего не ел и не пил» [372]. Эти странные, на наш взгляд, представления столь обычны для шаманистов, что всякий раз объяснять их болезненным состоянием индивидуальной психики совершенно невозможно. Безусловно, виденье собственного расчленяемого и пожираемого тела есть проявление некоторой религиозной реальности, присущей шаманизму как таковому. На крюках, в котлах и в челюстях предков и духов обычная человеческая плоть посвящаемого погибает, дабы свершилось «перевоплощение», новое рождение обновленного существа. Такое второе рождение, равно как и необходимо предшествующая ему смерть, известны многим религиям. «Дваждырожденными» именуют всех представителей трех высших каст в Индии. Смертью и возрождением является для христиан таинство крещения: «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились… дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» – объяснял апостол Павел своим римским единоверцам [Рим. 6, 3-4]. Образы смерти и возрождения всегда предполагают качественное изменение и качество дается теми сущностями, во имя которых человек умирает и возрождается. В таинстве крещения, например, неофит «облекается во Христа». Видения шаманской инициации ясно указывают, что тут посвящаемый «облекается» в духов и предков. Они преображают его плоть, его ум и силу. Умирает обычный человек и в процессе посвящения появляется новое существо с демоническими качествами, способное свободно вступать в общение с духами и предками. Новое существо это не отрывно от того, былого, еще не инициированного человека, но и не тождественно ему. Плоть – та же самая, но преображенная духами в посвятительных обрядах, является и хранительницей преемства, и носительницей новых качеств. Новым качеством преображенной инициацией плоти шамана является и его способность порождать необходимые для камлания изображения духов-помощников. У сильных шаманов эти изображения появляются изо рта. Часто перед их появлением шаман долго мучается коликами и схватками, похожими на родовые. Затем идолы выходят вместе с рвотой. Нанайская шаманка Алтаки Ольчи показывала Анне Смоляк серебряные фигурки двух ящериц и рыбки, а также серебряный диск диаметром в три сантиметра с изображением на нем черта с двумя хвостами. Все эти фигурки являлись воплощениями духов-помощников, приходивших к шаманке при ее камланиях, и все они появились, по утверждению шаманки, из ее рта [373]. У нанайцев это явление хорошо известно и имеет специальное наименование – солби. Но аналогичные убеждения в чудесном, извнутрь человека, происхождении идолов и иных предметов колдовского обихода широко распространены среди шаманистов различных традиций и культур. Представления эти недвусмысленно свидетельствуют в пользу двуприродности личности шамана, ибо человек не может рождать образы духов, если те не имеют никакого отношения к его природе. Солби явно указывает на присутствие в шамане демонического начала, которое и порождает свои иконы, являя их зримым образом изо рта колдуна. Шаманское посвящение и становится тем действом, которое превращает человека в демоно-антропическое существо. Пройдет немало лет после инициации, и практикующий шаман, призывая духов во время камлания, будет вспоминать свое посвящение в таких словах: Меня, заику, одарившие языком, Мне, кривому, давшие глаза. Меня, глухого, одарившие слухом. Меня, не имевшего предков-шаманов, сделавшие шаманом. Меня, имевшего плотное тело, сделавшие человеком с открытым телом. Мои божества девяти улусов, Ближе, ближе будьте [374]. Совсем неслучайно ибанский мананг высшего посвящения именуется мананг боли, то есть шаман-дух. На языках северного Калимантана балиан означает вселение духа, демонизацию. Человек, получивший призыв духов взойти на ступень мананг боли, меняет пол – мужчина выходит замуж, женщина женится, и те и другие начинают носить платье противоположного пола и, раздав все имущество детям и близким, начинают новую жизнь. Все эти внешние образы символизируют одно – смерть былого человека и появление нового существа: мананг боли – шамана-духа. Но одним возрождением и преображением души и тела внутренний смысл шаманского посвящения не исчерпывается. Помимо этого очень важно, что посвящаемый испытывает почти невыносимые страдания. Инициация – не просто смерть, но смерть мучительная. Страдание – это всегда искупление, искупление чьих-то грехов, неправд. Грехи могут быть как самого страдальца, так и других, которые он принимает на себя. В последнем случае каким-то образом символически объясляется факт его соучастия в страдании тех, за кого испытывал мучения страдалец. Без соучастия неправда их не может быть искуплена. Сила, энергия страдания не превращается в лекарство исцеления. Скажем, христиане уверены, что Христос «взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» [Ис. 53, 4; Мф. 8, 17], и именно поэтому они соучаствуют Его скорбям и смерти и инициационным таинством крещения и всей последующей жизнью, которая именуется Самим Иисусом «несением креста» [Мф. 16, 24], то есть того орудия мучительной казни, которую принял ради людей их Создатель и Спаситель. Именно поэтому, крестясь в смерть Иисуса, христиане чают обрести в Нем и воскресение. Логика шаманской инициации, видимо, такая же, однако как бы вывернутая наизнанку. Здесь не человек соучаствует в страданиях Бога, но духи стараются стать участниками человеческого страдания. Демоны всячески мучают неофита, вкушая энергию его страданий, причащаясь (то есть становясь частью) человеческой плоти и крови, что ясно выражено в символическом пожирании «богами и предками» тела посвящаемого. Это – евхаристическое таинство наоборот. В евхаристии, вкушая плоть и пия кровь страдавшего, умершего и воскресшего Богочеловека, христианин становится Богом, в шаманской же инициации пожирая плоть неофита демон становится человеком. Этот «духочеловек» и есть шаман. Не переставая быть человеком, шаман стал демоном, а точнее – не прекращая демонического существования, дух обретает в шамане человеческие тело и душу. Примечательно, что по воззрениям многих шаманистов только с теми духами может общаться шаман, какие сподобились отведать его плоти во время посвящения. Другие не придут к нему на помощь по той простой причине, что не имеют части в нем, не являются элементами конкретно этого духочеловеческого симбиоза. Так, якутский шаман Н. А. Парфенов, на вопрос, камлал ли он хозяину охоты Баянаю, ответил, что когда духи из его тела «шашлык делали» у них получилось всего девять кусочков; Баянаю еды не досталось и потому он не мог с ним общаться [375]. И хотя объяснение самого шамана несколько наивно, суть его ясна – дух-Баянай не вкусил от его тела, потому не стал частью его личности и вследствие этого общение с ним для Парфенова невозможно. Инициация, обретение человеческого тела, видимо, весьма нужна именно духам, а не человеку. Поэтому будущий шаман сопротивляется сколько есть сил, и сдается духам, когда не может далее переносить страданий шаманской болезни. Инициация шамана – аскеза наоборот. У многих народов шаманы делятся на «белых» и «черных», то есть тех, которые общаются с небесными силами, и тех, которые знают пути к духам преисподней. У бурятов первые носят белые, а вторые – синие одежды. У ненцев шаманы, связанные с небесными силами, именуются budtode, а общающиеся с миром мертвых – sawode. Все зависит оттого, какой дух совершал посвящение в шаманы, ел плоть и пил кровь неофита, с какой части мирового древа была сорвана ветвь для его шаманского бубна. У некоторых народов, например у ульчей и нганасан такого разделения нет, и один и тот же шаман по мере надобности совершает путешествия и в верхние и в нижние миры. Помимо «пространственной специализации» шаманы, как правило, различаются соплеменниками еще и по той «шаманской силе», которой они обладают. Слабых шаманов, которые шаманят только «для себя», нанайцы именуют мэпи-сама (мэпи – себя). Как правило – это родственники известного шамана, не прошедшие обряда посвящения, часто даже не имеющие бубна, этой модели мира, вмещающей духов-помощников колдуна. «Средние» шаманы именуются нанайцами таочини-сама (слово таоча означает – исправлять, чинить, поддерживать огонь). Таочини-сама - большей частью являются шаманами-лекарями. Это – наиболее многочисленная группа шаманов, и входящие в нее прошли формальное посвящение и имеют духов-помощников. Но наибольшее почтение и страх вызывают у нанайцев касатысама – самые сильные колдуны, встречающиеся довольно редко. Коса – это, как уже рассказывалось, последний заупокойный обряд, проводимый нанайцами по усопшему. Касаты-шаманы кроме обычных духов-помощников имеют еще и громадную «величиной с амбар» птицу-духа Коори, без помощи которой не уйти живым из преисподней. Только оседлав Коори, касаты-шаман может стремглав преодолеть преграды между инфернальным и земным миром. Другим важнейшим духовным имуществом касаты-шамана являются сани-нарты, на которых души умерших только и можно доставить в сохранности и целости до буни – страны мертвых. Слабые и средние шаманы никогда не решатся провожать душу умершего – слишком велика опасность «потерять» душу без нарт по дороге или самому навсегда остаться в обителях мертвых. Среди шаманистов бытуют страшные легенды о самонадеяных шаманах, взявших себе дело не по плечу и потерявших собственную душу в буни. Вскоре такой шаман или тонул, или умирал, задранный хищным зверем. ЗАГАДКА тудинства У нанайцев, ульчей, нганасан, а возможно и среди иных практикующих шаманство народов, существует помимо шаманов и еще одна категория лиц, касающаяся мира духов и действующих в нем. Это ясновидцы. Архангелогородские ненцы называют их сэвндана. Нанайцы именуют их тудины (у нерчинских эвенков тода – думать, у эвенов туйде – предсказывать, у маньчжуров туди - знахарь, волшебник, у якутоп туй – предчувствовать неудачу). Как верно заметила. Анна Смоляк, для понимания истоков этого понятия «требуется детальный лингвистический анализ», которого пока нет [376]. Ульчи слово тудин не употребляют, но старики говорили Анне Смоляк, что тудину среди ульчей соответствует исачила – ясновидящие (от исал – глаз). Тудины никогда не шаманят, у них, по убеждению самих шаманистов, нет духов-помощников аями, но тудины способны предвидеть будущее, указывать источник беды или болезни, следовать умным зрением за шаманом в его духовных странствиях. Тудины лечат больных, по общему убеждению, лучше, чем шаманы, к ним прибегает община как к мировым судьям и посредникам в тяжбах. В их честности обычно не сомневаются, и эти люди пользуются среди соплеменников большим почетом и огромным авторитетом. Один из информантов Анны Смоляк – Н. Д. Дзяппе, сам племянник известного тудина, объяснял, что тудин «все знает, так как душа у него работает». Низовые нанайцы тудинов называют тудири. П. Я. Онинка рассказывал об одном из таких ясновидцев, которого сам знал в юности: «Был Киле Баврони в селении Дзяппе на реке Харпи у озера Болонь. Тудири не шаман. К нему приходят, просят помочь больному человеку. Он лежит у себя дома, думает, потом говорит, какую фигурку духа нужно сделать, чтобы больной поправился. Он хорошо вылечивал сумасшествие, экзему, но не шаманил, не имел своих божков (то есть фигурок духов) как шаман. Иногда он кропил больного, предварительно опустив в воду ритуальные стружки гиасада» [377]. Примечательно, что, по убеждению нанайцев, тудины получают свои знания и силы почти исключительно от небесных духов вьющих сфер. Посредником между тудином и небесными духами является их этугдэ - личный дух человека, которого знакомые с христианством нанайские старики называют «ангелом-хранителем», сопутствующим человеку от рождения. Когда у человека есть этугдэ, и особенно когда он «большой», то есть сильный, ему, этому счастливому этугдэнку най (обладателю этугдэ), нечего бояться. Ни в тайге, ни в селении злые духи не смеют приближаться к обладателю мощного этугде. А если они и приблизятся, этугдэ «как собака» бросится на них и отгонит. О любой опасности этугдэ, совсем как ???????? Сократа, сообщает на ухо своему обладателю. «Мы, простые люди, не знаем, где опасно, – объяснял Анне Смоляк один нанайский охотник, – а он, этугдэнку най, все знает». И тогда этугдэнку най достаточно сказать громко «Га!» и зловредные духи в ужасе разбегутся. Когда люди не доверяют шаману, они стараются позвать на камлание тудина, который может изобличить колдуна в недобросовестности. Аборигены Нижнего Амура любят рассказывать истории о том, как шаман во время камлания на излечение «схалтурил» и привел к больному не его потерянную душу, а какую-то чужую, оставив собственную душу больного в бессилии лежать на шаманской тропе, подвергаясь многим опасностям. Тудин публично изобличил недобросовестность шамана и заставил его повторить камлание. Душа больного была, наконец, ему возвращена. Похожие случаи бывают и во время поминок коса, когда тудин указывает совершающему проводы души шаману, что панян упала с нарты и не доставлена в буни. Сущность явления тудинства столь же таинственна, как и этимология слова тудин. Может быть у некоторых неписьменных народов сохранилась под названием тудинов, исачила, сэвэндана и подобных им духовидцев категория лиц, которые когда-то являлись пророками, то есть сообщали племени волю Бога-Творца, через послушных Ему духов, которых христианская традиция именует ???????? – ангелы, посланники. Не случайно тудины, если не контролируют они шаманское камлание, действуют исключительно днем, шаманы же камлают только в темное время суток. Хотя тудины иногда и страдают эпилепсией, но специфической шаманской болезни они не знают, никаких посвящений не проходят, особой одежды не носят, никаких особых предметов не используют. Они как бы свободны от власти духов, которых страшатся все их соплеменники. Около дома, где живет тудин, обычно стоит столб – тудэ, перед которым тудин молится небесным духам. Навершием столба является искусно вырезанная фигурка кукушки – кэку, иногда изображения кукушек украшают и среднюю часть тудэ. «Эти духи – кэку помогали тудину знать многое, что не дано обычному человеку, а также судить, лечить…» [378]. Не связана ли с кукушкой – этим древним символом повторения, рецитации, мысль о том, что тудин лишь проводник воли Неба в земной мир? Бытует примечательное предание, что духи-хранители этугдэ даются всем без исключения людям, но подавляющее большинство отгоняет их от себя дурными делами, а тудины, избегая всего греховного, сохраняют своих духовных покровителей [379]. Среди нанайцев и ульчей широко распространены легенды о сильных духом тудинах, избавляющих даже умерших из лап смерти. Анне Смоляк рассказывали о таком случае: «В селе внезапно умер человек. Его тело оставили у дома, рядом сел человек с сильным, большим этугдэ (другой никогда не решился бы). Все ушли, собак в деревне привязали. В полночь пришел черт за покойником, этугдэнку пай убил его копьем». Быть может в этих быличках сохраняются мощные когда-то упования на победу над смертью, и на ту роль, которую играл в драматической борьбе с «последним врагом» священник-пророк, сообщавший людям волю их Небесного Отца. В нынешнее время тудины во многом превратились в помощников шаманов, но между ними и шаманами и сейчас легко обнаружить соперничество, взаимную подозрительность, даже неприязнь. Может быть это – следы давней борьбы слабеющего теизма, исповедниками которого были предшественники тудинов, с колдунами-шаманами, предлагавшими своим соплеменникам удобную и необременительную жизнь в мире духов? ЧТО ТАКОЕ КАМЛАНИЕ? «Главные обязанности шамана – лечить больных людей, охранять их от злых духов, добиваться удачи охотникам на промысле, своевременно угадывать приближения несчастья в семье или селении, узнавать, какой будет весенняя охота, предсказывать погоду на ближайшие два-три дня» [380]. «Основными функциями шаманов было лечение больных, предсказание будущего и розыск пропавших людей и вещей» [381]. Эти свои «обязанности» шаман исполнял с помощью определенных действий, получивших у религиоведов имя камлание. Слово «камлание» происходит от тюркского kam – колдун, знахарь, прорицатель. В древнейшем памятнике тюркской письменности, в уйгурской поэме «Кутадгу билиг» («Наука о том, как быть счастливым»), написанной придворным кашгарского двора Караханидов Юсуфом Баласагунским в 1069-1070 годах, среди иных дидактических бейтов имеется и следующее поучение: Есть много знахарей, Которые исцеляют болезнь ветра, К ним, господин, ты должен обратиться, Заговоры помогают от болезни; Но если тебя будет лечить кам, Ты должен, господин, полностью ему верить, Врач ‹отчи› не любит его речи, Он отходит от мукасима. Арабское слово мукасим буквально означает «тот, кто дает клятвы», «заклинатель». В поэме Юсуфа Баласагунского оно синонимично тюркскому kam. В другом месте поэмы дается совет «Или держись врача, или кама». В составленном каким-то итальянцем в 1303 году «Codex Cumanicus» – списке слов тюркского племени команов (это племя в конце XII века переселилось из Северного Причерноморья в Венгрию) – слово Incantatrix(ведьма) передано как kamkatunkisidir(человек, названный женщина-кам); а слово Adiuino (я совершаю заклинание) – как kamliketermen(я совершаю дело кама). Слово kamlikв среде алтайских тюрок и значит колдовать, шаманить, иначе – камлать [382]. Сущность камлания – это общение с духами ради достижения некоторых целей самим шаманом или заказчиком камлания, которым может быть и отдельный человек, и род, и целая община. Цель камлания – свободное перемещение шамана в небесных, подземных или земных сферах, то есть там, где обитают необходимые для выполнения задачи данного камлания духи. Задачи же камлания могут быть сведены к нескольким основным: а) встретиться лицом к лицу с высшими небесными духами и сообщить им о нуждах общины; б) добиться у духов вод и лесов благоприятной охоты и рыбной ловли, а у духов покровителей земледелия и скотоводства успехов в крестьянских трудах; в) выяснить причину болезни и исцелить больного человека; г) проводить душу умершего в потусторонний мир и предотвратить его возвращение «в страну живых»; д) сохранить здоровых людей, особенно детей, от нападений зловредных духов, болезней и случайной смерти; е) прибавить себе знаний при встрече с духами и с шаманамипредками. Все эти многочисленные задачи камланий, в сущности, сводятся к двум: взять нечто в мире духов и передать людям, или взять нечто в мире людей – и передать духам. Рассмотрим камлание на конкретном примере. «Наиболее распространенный функцией сибирских шаманов было лечение болезней» – совершенно справедливо указывает Елена Новик [383]. Как же идет камлание на исцеление? Все начинается с приглашения шамана. Оно обставлялось серьезно. У кетов (маленький народ, живущий по Среднему Енисею) человек, просящий о камлании, приходит в чум шамана и молча вешает платок на задней, противоположной от входа, стене. Разговор при этом идет о посторонних вещах. Если шаман по какойлибо причине не может в этот день шаманить – он молча возвращает просителю его платок. Спрашивать о причине отказа не принято [384]. У других народов знаком призыва на камлание является посылка за шаманом вьючного животного или упряжки с провожатым. По рассказу ЕЛ. Крейнович [385], своеобразная манера призыва шамана сохраняется у нивхов. Тут шамана просят помочь больному явным образом, а если он отнекивается, то силой берут его бубен и колотушку, идут в дом больного и начинают шаманить сами. Духи, услышав знакомый призыв, собираются в бубен и шаману ничего не остается, как соглашаться камлать, дабы избежать неприятных объяснений с вызванными зря духами. Если шаман соглашался камлать, то начинались приготовления на месте действа. В зависимости от тяжести болезни участок для камлания организовывался с большей или меньшей тщательностью. Пол выметался, бытовой хлам выносился и уничтожался, дабы с сором из дома были выброшены и мелкие зловредные духи. Приглашались родственники и соседи. Определялись помощники шамана. Скажем, у якутов при совершении обрядов требовалась помощь кутуруксутов-знатоков обряда, а также семи или девяти невинных девушек и юношей. Однако завершить приготовления возможно лишь узнав причину болезни. Причин болезней было в принципе две: духи могли похитить душу больного или же какой-то зловредный дух мог вселиться в человека, становясь поводом недуга. От того, надо ли было изгонять духа или возвращать душу, зависел характер камлания. Кроме того, важно было знать имя духа, вызвавшего болезнь, и то, из какого мира и яруса он происходит. Без точного знания имени духа и его происхождения камлание не могло быть удачным. Иногда выясняют происхождение духа сами родственники больного, особенно это принято среди нижнеамурских и сахалинских аборигенов, где шаман вообще не отделен от мирян в такой степени, как у иных сибирских народов, но, как правило, «диагноз» ставит шаман, или, как минимум, он проверяет его правильность. Для определения причин болезни применяется специальное гадание. Якуты называют его джапбйыы. Шаман становится над больным и, размахивая деревянным жезлом с привязанными к нему пучками конских волос (жезл этот зовется джалбдыыр), перечисляет в песенном строе имена всех известных ему духов, могущих быть источником недуга. Названный по имени, дух не может не отозваться, и тогда волосы на жезле поднимутся вверх. У нанайцев для этой же цели используется «заговоренный» камень, который подвешивается на шнуре перед перечислением имен духов. Когда имя названо верно, камень начинает раскачиваться [386]. Когда у шамана возникают сомнения в верности гадания, он призывает духов-помощников. Иногда для этого достаточно посоветоваться с духом – «хозяином слова» (якут, тыл иччитэ), иногда же приходится созывать многих духов, устраивать целое предварительное камлание. Г. В. Ксенофонтов [387] записал в 1924 году такое якутское камлание над больной, у которой опухала нога. «Шаман Кубаач, созвав своих духов-помощников, вселил их в себя, угостил приготовленным жиром, кровью оленя, табаком и т. д., а затем начал гадать, бросая от имени духов колотушку бубна. Потом он впустил своих духов в тело больной, чтобы те узнали, какое лечение назначить пациентке. В случае похищения души больного духами, духи-помощники во время обряда джалбыйыы подсказывают шаману верное направление будущего поиска. По общему убеждению шаманистов во время одного камлания шаман не мог действовать как в подземном, так и в воздушном мирах. Если причиной недуга был небесный абаасы – злой дух, то и камлание совершалось к верхним духам – юёсээ кыырар (якут.); ежели подземный, то совершалось аллараа кыырар – камлание в нижний мир, буквально «вниз по реке» (одной из распространенных в богатой полноводными реками Сибири моделей мира является река, текущая с неба через земной мир в преисподнюю). Лишь после получения результатов гадания начинается подготовка к камланию на исцеление. Сутью этой подготовки становится символическое уподобление места камлания вселенной, со всеми ее небесными и подземными уровнями. В зависимости от возможностей заказчика и традиции народа такая модель мира может усложняться или упрощаться. У эвенков строился специальный шаманский чум. «Чум, – как сообщает А. Ф. Анисимов, – строился по обычному типу, но значительно больших размеров, чтобы вместить всех сородичей… Посредине разводился небольшой костер. Через дымовое отверстие к костру опускалась молодая тонкая лиственница, символизировавшая мировое дерево туру… На противоположной от входа стороне помещался небольшой плот из деревянных изображений духов-тайменей. На него садился шаман, отправляясь плыть по шаманской реке в нижний мир – хэрву… Если действие мыслилось, как происходящее на суше, то под шамана подстилали коврик из шкуры дикого оленя, сохатого или медведя (ездового животного шамана. – А. З.)… К востоку, против входа в чум, сооружалась дарпэ – длинная галерея из молодых живых лиственниц и различных изображений шаманских духов. С противоположной, западной стороны чума, сооружалась онанг. Если первая, дарпэ, символизировала вершину реки, верхний мир, а чум – средний мир, то онанг олицетворяла нижний мир, реку мертвых, и соответственно этому ее устраивали из мертвого леса – валежника [388]. Организация места камлания у якутов по форме отличается от эвенкийской, но типологически сходна с ней. Это также модель мира. Вот что рассказывает Н. А. Виташевский о приготовлениях двух якутских шаманов для камлания в верхний мир: «Первый шаман, Чыбаакы, велел поставить параллельно южной стене юрты священный жертвенный столб – багах, состоявший из двух лиственниц по краям и березки посередине. На берегу была подвешена тушка чайки головой вверх, а грудью – на юг; на одной из лиственниц укрепили череп лошади. Все деревья были увешаны пучками волос и лоскутками кумача и соединялись между собой веревочкой ситии. Между багах и стеной юрты врыли одноногий стол, на который во время камлания шаман ставил чашку с водкой. Второй шаман, Бырты, воткнул три кола, на средний из которых водрузил изображение мифического крылатого животного с лошадиной головой, на восточный – фигурку ворона, а на западный – мифического двуглавого орла ёксёкю. Между кольями и юртой был тоже поставлен стол, на котором заранее укрепили семь деревянных бокальчиков цилиндрической формы и перед каждым из них положили по кусочку сырого мяса [389]. А вот как, по материалам этнографов дореволюционного времени, собранным Н. А. Алексеевым, обставлялось камлание в нижний мир у якутов: «Во время камлания к духу глазных болезней жертвенный столб – багах был установлен не с южной, а с северной стороны юрты, там где находился хлев (хотон). К западу от нее в снег воткнули шест, а по обе стороны от него – две березки, с оставленными на их вершинах ветками. На этот багах навязали веревку с девятью пучками конских волос. С севера от багах поставили одноногий высокий стол, на который положили девять кусков мерзлой крови, а перед ним воткнули посаженные на колья изображения трех белоголовых черных воронов и трех чернозобых гагар. Эти фигурки были окрашены кровью. Между багах и хотоном воткнули еще три изображения кукушек и три куликов. Все эти птицы были направлены головой на север и северо-запад [390]. Иногда к столбу – багах и изображениям девяти птиц добавляли еще и девять изображений рыб с обратным естественному направлением чешуи, а также модель лодки с парусом, гребцами и рулевым. Все изображения окрашивались охрой или кровью [391]. Из приведенных описаний можно ясно видеть присущую сибирским народам модель мира, в котором и собирается действовать шаман. Мир трехчастен, четко разделен на небесный, земной и нижний, подземный, уровни. Этот трехчастный мир символически ориентирован по сторонам света. Безусловно – это не действительная топография, но именно символическая. Восход солнца, как и повсюду среди людей, связывается с жизнью, небом; закат – со смертью и с обителью мертвых. Видимо характерной особенностью высоких широт северного полушария является и вторая привязка – юг, откуда дуют теплые, приносящие жизнь, ветры – образ неба и жизни; север – с его все вымораживающими вьюгами – образ смерти. Поэтому камлания небесным духам совершаются к югу и востоку от жилища, а подземным – в северном и западном направлениях. Примечательно, что по убеждениям современных шаманистов небесные духи ничуть не добрее подземных, а мир неба вовсе не есть обитель вечной жизни и радости, как альтернатива мрачному подземному царству. Однако топография мира сохраняет знаковую качественность (жизнь – смерть, тепло – холод, свет – тьма), наследованную, скорее всего, от того далекого времени, когда предки нынешних сибирских аборигенов еще жили в системе теистической религиозности и Небо для них, как и для людей древней доистории, являлось желанной целью посмертного блаженного божественного бытия, а солнце, рождающееся каждый день на Востоке – образом торжества жизни над смертью, Бога-Творца – над силами космического зла. Подобное же воспоминание сохраняется и в сакральной топографии жилища. «По старинным представлениям кетов, – отмечает Е. А. Алексеенко, – сторона любого жилища, противоположная входу, являлась «чистой», передней стороной, местом, где «приземляются» и живут добрые восточные духи» [392]. Это представление зафиксировано археологами, как мы помним, с эпохи протонеолита, возможно, следы его можно найти и в медвежьих пещерах неандертальцев, где святилища были максимально удалены от входа, а передняя часть пещеры использовалась в профанных целях. Можно лишь догадываться о причинах такой традиции и о тех сущностях, которые она символически воспроизводит. Но почти наверняка мы здесь встречаем противопоставление, оппозицию: мир земной, грешный, профанный, расположен при входе, близ «пуповины» – входа, открывающей жилье внешнему, мирскому, а мир священный, небесный, чистый, отсечен от входа огнем очага и расположен по ту сторону домашнего огня, подальше от ворот в мир. Слабая выявленность качественной различности мира и Неба, греха и святости в шаманизме, делает и топографию жилища необъяснимой без воспоминания об иной, бывшей когда-то форме религиозности предков современных шаманистов. В послереволюционные десятилетия с шаманизмом велась столь же непримиримая борьба, как и с иными проявлениями «реакционной религиозной идеологии». Сложные комплексы модели мира для камлания создавать стало почти невозможно, но основные и потому необходимейшие знаки сохранялись в упрощенном виде. Вместо специальной юрты использовали обычную жилую. В ней ставили дерево с зарубками (тапты)по числу небесных или подземных ярусов, которые должен был пройти шаман. Порой, боясь соглядатаев и доноса, камлание проводили вообще вне селения, и тогда любое дерево могло превратиться в Мировое Древо, в Ось Мира – на нем достаточно было сделать соответствующее число зарубок или подрубить нижние ветви, а любая река – стать Великим космическим потоком, «шаманской рекой», несущей свои воды с Небес, через земной мир в преисподнюю. Система символических уподоблений в шаманизме оказалась лишенной жесткого формального канона, изменчивой под воздействием внешних обстоятельств, но в главных своих узлах, восходящих к доистории, очень прочной. СОБИРАНИЕ ДУХОВ Все приготовления заканчивались приходом на камлание многочисленных участников-зрителей. Шаманисты совершенно уверены, что чем больше людей собралось на камлание, тем приятней духам-помощникам и потому – тем удачней будет камлание. «Чем больше на камлании бывает народу, тем приятнее духам, тем активнее они работают. Многие старики отмечали, что духи чувствуют большее расположение к авторитетным шаманам, у которых всегда собирается много народу на камлание» [393]. После начала камлания входить в собрание уже нельзя, и поэтому все спешат занять места заранее. В научной литературе можно встретить много размышлений о том, что в скучных и трудных буднях сибирских аборигенов камлание становилось одним из немногих ярких общественных действ и именно поэтому, а не в силу «религиозности аборигенов» собирало, да и продолжает собирать множество зрителей. Все это верно лишь отчасти. Для людей, которые полагают мир духов абсолютно реальным, а самих духов – могучими личностями, свободно выбирающими между добром и злом, принять участие в камлании – значило – сопричаститься этому таинственному миру больших сил, обрести в нем «покровителей» и «друзей». Конечно, как и любое социальное действо в любом обществе, камлание давало людям возможность и общения, и знакомства, и отвлечения от будничных трудов. Но нельзя не заметить, что главным в нем было снятие преград между миром людей и миром духов, и именно это снятие преград было самым существенным и желанным для всех участников камлания. Общественный характер шаманизма прекрасно выявляет существующий у амурских народов обряд унди (нанайск.). Это обряд собирания сил шамана. Шаман обходит дома односельчан и люди подносят ему выпить отвар листьев багульника (растение духов по убеждению всех сибирских шаманистов) и одаривают деревянными стружками (средство от злых духов). Чем больше людей подносят шаману эти «дары», тем могущественней он становится. Духи-помощники видят влияние своего «патрона» на людей и радуются. Одновременно шаман очищает во время унди дома односельчан от злых духов. Обычай созывать близких и друзей на день рождения и правило являться в дом новорожденного с подарками – отдаленный «родственник» обряда унди. Шаман или являлся на камлание в специальном облачении, или облачался уже в чуме перед началом действия. Облачение шамана было красочно и, как правило, воспроизводило картину мира. На его плаще и нагруднике вышиты солнце, луна и звезды, змеи, тигры, медведи, рога и головы оленей. На голове шамана повязка или особого вида шапка. У самых сильных из шапки выходили рога (отдаленное воспоминание атрибутики Небесного Отца) – нанайцы называют такие шапки чурукту. На руки шаман одевает специальные рукавицы, на ноги – особую обувь. Сильные шаманы имеют по несколько костюмов. В одних они камлают в нижний мир, в других – в небесный, третьи одевают, когда камлание должно ограничиться миром земным. Облачаясь, шаман постоянно шепчет призывания духов, которые должны войти в надеваемые вещи. Рисунки и подвески, а также сами части одежды шамана всегда являлись жилищами духов-помощников. Духи могли бродить где угодно, но в начале камлания по зову колдуна они должны были незамедлительно вернуться «в строй». Пришедших первыми шаман хвалил, опоздавших – журил за нерадение. Отношения шамана с духами вообще отличаются отеческой простотой. «У нас много духов, и все они разные, каждый сообщает свое. Сам никогда не придумаешь того, что они нам рассказывают» – говорили шаманы Анне Смоляк, удивляясь недоверию русских ученых, все желающих свести к «субъективным эффектам» неустойчивой психики колдуна [394]. Однако простота отношений с духами вовсе не означает запанибратско-пренебрежительного отношения к ним. Шаманы избегают произносить имена духов вне камланий, боясь, что те придут на зов и разгневаются, обнаружив, что званы бесцельно. 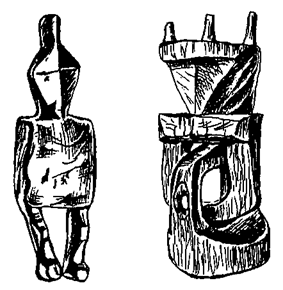 Фигурки духов эдехэ (а) и городо (б) (Ульчи. Нижний Амур) Боятся шаманы и соперничества между собой, боятся переманивая духов другими колдунами, страшатся показать пределы своих духовных возможностей, прослыть слабыми. Особенно тщательно скрывают шаманы местоположение своих «колыбелей» (гора, дёргиль – нанайск.) – мест, где отдыхает душа шамана в мире духов, ибо опасаются, что, проведав о таком месте отдохновения, злые духи и шаманы-враги «разорят» его. Еще до начала облачения в шаманский костюм, только сняв свою обычную верхнюю одежду, шаман перво-наперво звал самого старшего аями (духа-помощника) – «своего генерала, который им (то есть шаманом. – А. З.)командует», как объясняли нанайцы [395]. «В архивных материалах Г. В. Ксенофонтова есть упоминание о том, что незадолго до начала камлания якутский шаман надевал тонкие сапожки из оленьей кожи и, сняв с себя обычное платье и накинув первую попавшуюся доху, незаметно выходил на улицу, чтобы впустить в себя своего главного духа-помощника. Возвращался он совершенно другим человеком: рычал, косился на людей, брыкался, пока помощники надевали на него плащ с ремнями и шапку. По объяснению собравшихся, происходило это потому, что камлавший в этот вечер шаман Кубаач был еще начинающим; с годами же шаманы «овладевают» своими духами и бьются меньше» [396]. Впустив в себя «духа-генерала» и облачившись в «волшебный» костюм, шаман садится лицом к огню очага и начинается та часть камлания, которая именуется у якутов олоххо олорор – созывание духов. Сначала шаман просит о помощи духов очага, дома и рода больного. Затем он начинает собирать своих аями. «Например, шаман Акиану Онинка из Найхина звал духа своего деда, после этого – «отцов», «матерей», «сыновей», «дочерей», «сестер», «братьев», «мужей», «жен». Часто шаманы ласково называли своих духов «сынками», «доченьками», кликали их по имени – «Люба, Толя». Шаман Моло Онинка (селение Дада) рассказывал Анне Смоляк о своем духе-любимчике, по имени Упа: «Это девочка лет 11-12, всегда такая маленькая (духи не меняются). Болтунья, во многих местах бывает, все видит – приходит, говорит, рассказывает, что узнала, видела. Устанет – всегда спит у меня подмышкой, тепло делается. Это – мое сердечко, первая кровь моей матери перед моим рождением, это дух эдехэ. Я всю жизнь с ним. Есть еще у меня два духа девочки и два мальчика. Но первый дух – эдехэ Упа». Об Упе старый шаман говорил, что она – дочь небесного духа Хото, покровителя их рода [397]. Изображения «генерала» и духов-любимчиков шаман носил на себе постоянно. Но это – именно образы, а не сами духи. Духи бродят, совсем как киплингова Кошка, «где хотят», временами возвращаясь к шаману. Тот регулярно кормит идольчиков. Где бы ни находился эдехэ или аями, он вкушает эту пишу (а ее материальную субстанцию поедает сам шаман) и потому, по убеждению шаманистов, с готовностью откликается на всякую просьбу колдуна. Столь «родственные» отношения шамана с его духами-помощниками долгое время побуждали исследователей шаманизма полагать, что духами этими являются души умерших великих шамановпредков. Так думал, например, В. Радлов. Позднее распространилось мнение, что духи-дети происходят от брака шамана с духом женой (так думал В. Г. Ксенофонтов). Но к настоящему времени, безусловно, установлено, что духи-помощники – это не души умерших, но духи, служившие предкам-шаманам. Также ни о каких браках шаманов в мире духов сибирские аборигены не знают, но именуют духов отцами или сыночками исключительно сообразуясь с возрастом и характером того или иного духа и с той степенью близости, которая установилась между аями и колдуном. Сексуальные отношения с духами все шаманисты решительно отрицают. После того, как к шаману пришли его «родные» духи-помощники, он начинает созывать тех духов, которые необходимы ему в этом именно камлании. Шаманисты убеждены, что зовет духов сам «генерал», а не шаман, от того-то они и приходят послушно. Пение-призывание духов у якутов называется кутурар и происходит от слова кут – быть одержимым духом, бесноваться. Стихи-заклинания – алгысы могут быть очень различными. Это – всегда импровизации, и их строй зависит от поэтического таланта шамана. Мерно ударяя в прогретый на огне очага бубен шаман распевно говорит «чужим» голосом: Восьминогое племя злых духов, Близких своих родственников притяните-ка к себе! [398] Или существенно поэтичней и более развернуто: Из белого разлива имеющая питье, На озере Танай имеющая стоянку [берлогу], Имеющая прозрачно-колеблющееся озеро, хан, Имеющая каркающих птиц, хан, Одевшая шубу из шкуры барса, Ездящая на коне, более пестром, чем барс, О Мать, Майгыл Кайракан! [399] Духи собираются в шаманский бубен. Он все тяжелеет и шаман показывает, что уже с трудом приподнимает его, но он продолжает бить, указывая то криком, то шепотом, то ржанием, то рыком волка, то характерным движением тела, какой именно дух пожаловал к нему в бубен в данный момент. Наконец, собирание демонов завершено и осталось последнее действие перед камланием – угощение духов – кунду (якут.). Мы сохраняем древнейший обычай сотрапезничества с гостем. Не предложить приглашенному в дом даже по делу хотя бы чашечку кофе у нас в России – дело невозможное. Запад, сколь я знаю, изжил этот обычай, а между тем в нем содержится глубокий смысл – совместное вкушение пищи соединяет людей, роднит их друг с другом. Отсюда, кстати, и дипломатические обеды, и приемы с фуршетом. Понятно, что не ради еды государственные мужи, главы государств приезжают друг к другу, но совместный стол есть символическая демонстрация единства – вкушение одной пищи одновременно делает сотрапезников как бы одной плотью. На этом же принципе построены все жертвоприношения во всех религиях. Этот же смысл – и в обряде кормления духов. Духи приходят в дом людей и им дают есть не потому, что они голодны и не проживут без личинок жуков короедов, рюмки водки, рыбьих голов или куска мерзлой крови.  Шаман во время камлания (Нижний Амур, селение Джари, 1970 год) Духи бестелесны и не нуждаются в земной пище. Но без соединения духов и людей в некое антроподемоническое единство камлание не может иметь места, и потому духам предлагают угощение, которое от их лица съедает шаман или бросает в огонь очага. Нынешние простосердечные шаманисты большей частью наивно верят, что духи и на самом деле голодны и за харч готовы служить шаману, но сам характер их кормления явно указывает, что происходит не кормление будущих работников, но жертвенное сотрапезничество, ведущее духов и людей к соединению в некоторую цельность. Первым шаман кормит бубен. При этом алтайский кам, по сообщению В. Радлова, поет такую песню: Ты, ты – мудрый господин, Я, я – глупый слуга. Ты, ты – благородный господии, Я – раб, пришедший с просьбой. Какого властителя мне молить? Кого из господ мне просить? Ты – слуга всех властителей, Ты – предводитель всех господ! Направь ко мне посланника, Чтобы он указал мне дорогу! [400] За кормлением бубна следует кормление домашнего огня. И вновь в нем слышатся призывы к сотрудничеству, к соделанью. Вот текст из якутской традиции: Дух-хозяин теплого огня! Пепельная постель, угольные подушки. Зольное одеяло. Седеющие виски, седоватая борода, Светлая голова. Старый наш дед Хаан Тэмиэрийэ, Ешь – кушай! Тех, кто с холодным дыханием, Снаружи не впуская, Тех, кто с теплым дыханием, Изнутри не выпуская, Блюди и сохрани нас! [401] МАГИЧЕСКИЙ ЖАР И ШАМАНСКИЙ ПОЛЕТ Но вот – духи собраны. Шаман преисполнился силы. Его движения становятся резкими, порывистыми. Духи приняли жертвы, «покушали» и вошли в шамана. Теперь он с предельной явностью показывает себя двуприродным, демоно-антропическим существом. Внешне эта новая реальность проявляет себя мощным излучением силы, которую Мирча Элиаде удачно наименовал «магическим жаром». Вообще, в ощущении разогрева тела во время молитвы нет ничего необычного. В индийских традициях состояние духовной активности так и именуется – tapas – жар. Эффект этот хорошо известен во многих религиозных практиках и, как правило, аскетические руководства рекомендуют не обращать на него много внимания и тем более не гордиться достигнутыми успехами. Только там, где аскетика, деградировав до фокуса, находится на полпути к магии, явление молитвенного жара становится объектом заинтересованного внимания подвижника. Так, тибетские монахи устраивают специальные соревнования – сколько вымоченных в ледяной воде простыней смогут высушить они за ночь телом, оставаясь все время на пронизывающем ветру снежных вершин. Те, кто высушивают так более четырех кусков ткани, получают почетный титул respa. Шаман не только не скрывает, но, напротив, старательно показывает, что он обуреваем жаром во время камлания. Колдуны Малайского архипелага, дабы усилить этот жар, пьют соленую или наперченную воду, корякские и якутские шаманы едят мухоморы, а то употребляют и водку. Но все это – средства для «слабых». Настоящий демоно-человек разогревается той силой, которую черпает из единения с духами. На Соломоновых островах тот, кто обладает большой духовной силой (тапа), зовется – saka – обжигающий. Алтайский кам, завершив трудное восхождение на высшее девятое небо к Бай Ульгену и получив там просимое, прилюдно выжимает набрякшую от пота рубаху, показывая меру своей духовной горячности. Сибирский шаман не только игрой случая является наследником южноазиатского подвижника shramana – он на свой лад превратил и древние аскетические практики. В его опыте, при забвении Творца и утрате силы Его Духа, жар духовный не исчез вовсе, но обрел себе новый источник в тварной энергии демонов, с которыми соединяет себя посвящением и камланием колдун. Tapasстал магическим жаром. Преисполнившись полученной от демонов силой, шаман приступает к самой важной части камлания – он отправляется в мир духов, дабы определить причину болезни и ее виновника. Как мы помним, еще раньше, во время гадания – джалбыйыы шаман узнавал из какого мира пожаловал дух, вселившийся в больного, или куда похищена душа пациента. Теперь ему предстоит выяснить имя духа и причину несчастья. Для этого необходимо достичь хозяина соответствующего небесного или подземного уровня, а то и обиталища самого главного хозяина неба или преисподней. Мы уже упоминали о том, что неписьменные народы повсюду делят небо и преисподнюю на множество миров, в каждом из которых – свои города, сопки, люди, духи. Нанайцы уверены, что в каждом течет свой Амур, кеты то же мыслят о Енисее. Душу забирают для наказания за проступки, связанные, как правило, с нарушением определенных религиозных установлений. Чем выше сфера – тем тяжелей проступок, тем сильней наказание. Душу похищают злые духи – амбан (чтобы русским было понятно, аборигены часто именуют их чертями), подчиняющиеся высоким небесным духам (Эндури, Саньси, Бай Ульген). Если нарушены какие-то законы, определяемые инфернальной сферой мироздания, то тогда душу «нарушителя», похищают амбан, подчиненные хозяину преисподней – Эрлику. Не всегда и не все неписьменные народы склонны объяснять болезни проступком самого больного. Достаточно обычно и указание на извечную зловредность духов, на их зависть к человеку, на желание поживиться («покушать») его сердцем, печенью, мозгом. Но в любом случае необходим полет в мир духов, ибо без их указаний причина болезни не может быть установлена с необходимой точностью. Полет – самое удивительное в практике шаманизма, и самый главный из навыков шамана. По преданиям многих неписьменных народов когда-то, во «время оно» все люди могли свободно двигаться между мирами. Небо, землю и преисподнюю соединял широкий мост, который рухнул в результате каких-то неправильных действий человека. Теперь для жителей земли небо закрыто вовсе, а подземный мир превратился в «страну без возврата», куда раз и навсегда уходят умершие. С иными мирами живой человек может общаться только при помощи молитвы и жертвы. Да и сами молитвы не идут высоко. Только до четвертого из девяти небес нанайцев восходят молитвы простых людей [402]. Иное – шаман. «То, что для остальной общины остается космологической идеограммой, для шаманов… становится мистическим маршрутом. Реальное сообщение между тремя космическими зонами возможно теперь лишь для них», – точно указывает Мирча Элиаде [403]. Благодаря своему сложному демоно-антропическому естеству шаман может равно свободно существовать и в мире духов, и в мире людей. Для шаманистов полет шамана в иные миры ни в коем случае не есть ни условный образ, ни символ – это совершеннейшая реальность. Люди, собравшиеся на камлания, видят театрализованное действо, в котором шаман рассказывает о своем пути, воспроизводит диалоги с небожителями и некоторые эффекты, свидетелем и участником которых он становится – например, треск грома при пробивании алтайским шаманом каменного свода очередных небес во время восхождения к Бай Ульгену. Но это действо не воспринимается в качестве актерского представления. Напротив, все зрители, глубоко сопереживая шаману, затаив дыхание, а то и соучаствуя в камлании, безусловно уверены, что слышимое и зримое ими – лишь доступная человеческим органам чувств мера действительно происходящего в этот момент акта. Полет шамана имеет место в действительности, а восхождение на очередную ступень тапты при подъеме на следующее небо – знак происходящего в недоступном простым людям инобытии. Да и сам человек-шаман в часы камлания являет себя лишь знаком, эпифеноменом своей демонической природы. Что же касается символики полета, то она имеется практически у любого неписьменного народа. На плащах сибирских шаманов обычно нашиты пучки перьев. Перьевые накидки характерны для колдунов обеих Америк. Новогвинейский шаман строит в лесу маленький шалаш, надевает на руки и предплечья перья цапли, разжигает в шалаше огонь и вместе с дымом и огнем вылетает птицей. «От старой нанайки Гэюкэ Киле мы в 1970-е годы записали: «Дэктэчэ – перья орла на халате у шамана – заставляют его дважды в год делать обряд унди (обновление сил шамана. – А. З.), летать как птицы, которые улетают осенью и прилетают весной». Несколько человек, шедшие за шаманом, держали его за длинные ремни, привязанные к поясу, «иначе он улетит» [404]. Порой образом полета на иные уровни бытия становился физический полет шамана под потолком избы или вокруг чума. Старые ульчи уверяли Анну Смоляк, что в юности видели таких дэгдэ сама – летающих шаманов – сами [405]. Другим образом космического полета шамана, особенно распространенным среди когда-то кочевых народов Северной Евразии, является конь. Камлание у алтайцев, шорцев, якутов часто происходит на шкуре кобылицы. Предшествующее камланию жертвоприношение коня – подробно описанная В. Радловым обрядовая практика алтайцев и иных сибирских тюрков. Во время жертвоприношения необходимо сохранить в целостности ноги и шкуру животного, дабы он смог понести шамана к престолу небесного или подземного хозяина. Полет здесь ассоциируется с быстрой верховой ездой. Очень распространен обычай сжигать в начале камлания пучок конских волос – вызов шаманом коня, а во время камлания шаман многократно воспроизводит цокот копыт и конское ржание – знаки быстрой езды-полета. Часто шаманский духовный конь представляется восьминогим или безголовым (образы быстроты и инобытийности). Для общения с верхним миром предпочитают животных светлой масти – белых, сивых; для духовных путешествий в земном мире – рыжих, для достижения глубин подземного царства – вороных. Среди народов, использующих в качестве ездового животного северного оленя, он благополучно заменяет шаману коня в его колдовских странствиях. Шаманский полет вполне может рассматриваться как еще одно проявление упадка теистической аскетики. Всем, кажется, традициям известен опыт духовного восхищения во время напряженной молитвы или глубокого размышления о божественных сущностях. «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба… был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать…» – повествовал, по общему мнению комментаторов, о себе самом апостол Павел первым христианам Коринфа [2 Кор. 12, 2-4]. «Мысль [manas] – самая быстрая из того, что летает», говорится в ведийском гимне, обращенном к огню вездесущему (Агни-Вайшванара) [РВ. VI, 9, 5]. А гимн Ригведы [X, 119] весь построен на описании мистического полета адепта, вкусившего священного Сомы. «Тот, кто понимает – имеет крылья» – любимая формула индийской учительной аскетики [например, Панчавимша Брахмана XIV, 1, 13]. Шаманист делает это таинственное восхищение ума реальным путешествием, меняя при том адресат. Он, сохраняя память о мистических единениях, на место Творца ставит тварь. Ему необходимо не слияние с Богом, но лишь проникновение в мир духов, для решения некоторых земных дел, исполнить которые исключительно земными средствами общине представляется затруднительным. ИСЦЕЛЕНИЕ Диалог шамана с высшими духами может строиться различно. Узнав о допущенном проступке больного, колдун тут же спрашивает его: действительно ли он совершал названное духом неправедное действие. Если больной отрицает, камлание прекращается – диалог с духами не получился. Но если больной сознается в содеянном (соглашаться на лжи категорически запрещено обычаем), то беседа шамана с духом продолжается. Он предлагает выкупумилостивление. Дух требует большего. Шаман торгуется, указывая на бедность больного. Так от коня требуемая жертва может уменьшиться до петуха. Но иногда дух неприступен, и тогда или приходится изыскивать средства на полную жертву, или прибегать к хитрости. Обманы шаманом духов, даже наивысших и сильнейших, кражи душ из плохоохраняемых небесных хранилищ – очень распространены в практике сибирского шаманизма. У всех сибирских народов имеется немало легенд о находчивых шаманах, обманывающих духов. Такова, например, якутская легенда о борьбе шамана с духом, похитившим душу девушки. Молодой шаман еще «лежал в гнезде» то есть воспитывался у главы верхних духов-абаасы Улуу тойона. Из своего гнезда посвящаемый видит, как через пол юрты появляется сын Улуу тойона и молча усаживается в углу. Вслед за ним в юрту влетает «шаман земли» и просит Улуу тойона вернуть похищенную душу. Хозяин отнекивается незнанием, а сын не отвечает на вопросы шамана и сидит, уткнув голову в колени. Тогда шаман, превратившись в осу, жалит сына и, заставив его таким образом открыть лицо, влетает ему в нос; из ноздрей выпадает серебряное женское украшение – душа жертвы. Осашаман подхватывает ее и улетает вниз на землю. Увидев такое, старуха, воспитывавшая на небе души будущих шаманов, залепила им глаза детским калом и потому, завершается предание, теперь на земле перевелись великие шаманы, способные возвращать жизнь умершим людям [406]. Не менее распространенный вариант камлания на исцеление – обнаружение «чорта», похитившего душу без какого-либо приказа свыше, просто по привычке к гнусностям. Тогда шаман должен вступить со зловредным абаасы в борьбу и с помощью духов-помощников, одолев его, забрать душу. Но и тут хитрость ценится сибирскими шаманистами ничуть не меньше силы. М. Н. Хангалов [407] приводит такое бурятское предание: Некий шаман, узнав о болезни односельчанина, притворяется мертвым и так встречает трех злых духов, которые идут похищать душу. Дорогой духи спрашивают шамана, почему, если он мертвый, под его ногами приминается трава. Находчивый шаман объясняет, что он умер лишь недавно и еще не научился вполне ходить правильно. В свою очередь он интересуется у духов, чего они боятся больше всего на свете. Духи чистосердечно признаются (вообще духи часто предстают в легендах шаманистов сильными, но глуповатыми существами), что больше всего они страшатся шиповника и боярки. «А ты чего более боялся, когда был живой?» – задают ответный вопрос духи – «Я больше всего при жизни боялся жирного мяса» – отвечает находчивый бурят, не дурак покушать. Пройдя некоторое время, шаман предлагает духам понести пойманную душу, так как те устали. Духи охотно соглашаются. Заметив по дороге заросли боярки и шиповника, шаман прячется в них, крепко держа душу больного. Духи видят, что их обманули, но и близко не решаются подойти к страшным кустам. Издали начинают они забрасывать шамана кусками жирной баранины. Тот кричит «Ой, боюсь, боюсь», а сам наедается вволю. Духи, видя безрезультатность своих усилий, уходят прочь, а шаман, выбравшись из кустов, возвращается в земной мир и возвращает душу больному». Когда по каким-то причинам шаман не может обмануть или взять душу силой, он предлагает духам «выкуп» – жертвенное животное, приговаривая: «Вы хотели съесть этого человека, ешьте вместо него это!» [408]. Тем или иным образом получив душу больного человека, шаман обращается с ней крайне осторожно. Хотя этот момент камлания и именовался у нанайцев сэкпэн (от сэкпэмбуву – вцепиться зубами), шаманы разъясняли Анне Смоляк: «Никогда шаман не схватывает душу зубами. Душа маленькая, нельзя ее схватить зубами, ее повредить можно! Мы душу берем осторожно, обнимаем, прячем в складках одежды или в котомку, либо отдаем духу-помощнику, чтобы он потихоньку ее нес» [409]. Наконец, происходит возвращение души владельцу – пупсинг (нанайск.). Шаман с силой вдувает (пу - дуть) душу на одежду, на верх головы или между лопаток больного, при этом зрители стараются подтолкнуть шамана вперед и сильнее давить на спину ему в области лопаток, дабы он лучше выдохнул из себя обретенную душу. Сходным же образом происходило лечение и в тех случаях, когда злой дух вселялся в больного. Здесь самое важное – извлечь привязчивого духа из человека. Годны были любые методы – запугивание, выкуп, обман. Нанайский шаман, изведав, что в его пациенте прячется злой дух, громко кричал «Га!» и колотил в бубен, часто зрители помогают изгнанию своими криками. Злой дух – амбан пугался и убегал от больного через растворенные окна и двери. Более надежный способ такого камлания описан А. Смоляк: «Из сухой травы изготавливали большую фигуру, которую подвешивали к потолку или ставили на трех ногах около окна снаружи дома. От больного к фигуре протягивали нитку… Все присутствующие в доме кричали «Га!», чтобы устрашить злого духа, а шаман в это время изгонял его, кусая тело больного в разных местах – живот, грудь, шею, при этом амбан якобы метался в теле больного и наконец выходил через его рот… Вырвавшись из тела больного, амбан бежал по нитке (все видели, как она дрожит) и попадал в травяную фигуру; чтобы он не миновал ее, иногда внутрь вкладывали приманку (лакомство) – стружки, обмазанные рыбьей кровью. После этого чучело (само по себе) Начинало прыгать так сильно, что его с трудом удерживали за веревки здоровые мужчины. Тут все начинали бить его палками, убивали злого духа, а фигуру выкидывали в тайгу» [410]. После удачного изгнания амбана больной выздоравливал, однако камлание на этом не заканчивалось. СОХРАНЕНИЕ СПАСЕННОЙ ДУШИ В тяжелых случаях якутский шаман не ограничивался возвращением похищенной души ее законному владельцу или изгнанием злобного абаасы. Бережно взяв душу больного, шаман возносил ее высшим небесным духам-хранителям рода – айыы, прося очищения от всех недугов и предсказания будущей судьбы выздоровевшего человека. Этот обряд именуется кутун кётёгёр – поднятие души. Иногда в это время, пользуясь моментом близости с высшими духами, шаман пытается узнать будущее и других участников камлания. Среди алтайцев принято в это время поочереди подходить к каму, который, прижав подошедшего к своей груди так, чтобы он оказался между бубном и колотушкой, в стихах возвещает ему грядущее. У нижнеамурских народов забота о душе исцеленного проявляется иначе. Здесь принято среди шаманов брать души детей и болезненных взрослых на сохранение в убежище душ – дёкасон, дюасу. Как вы помните, каждый шаман имеет свою собственную «шаманскую колыбель» – дёргиль, гора’. Это – не область земного мира, но владения в мире потустороннем, символически выходящие в этот мир в каком-то чистом месте, «которое не могут осквернить люди», далеком от поселений, под огромными скалами, на недоступных океанических островах. В дёргиль отдыхают духипомощники шамана, там и он сам укрывается от всяческих напастей во время камланий. Туда же он относит и души спасенных людей, если об этом просят они сами или их родственники. Дёкасон описывается шаманами как просторный дом о трех, а то и о девяти комнатах, хорошо охраняемый духами-помощниками от всяческих бродячих кровожадных амбанов. За душами, лежащими на нарах и камах (толстые циновки – постели) присматривает старуха Майдя Мама, Осомди Мама. Сейчас нанайцы и ульчи шутливо именуют ее «зав. яслями». Однако, как уже выше было сказано, это переосмысленный образ Old Hag – Матери-Земли. Символом дёкасона у шамана является маленькая коробочка или мешочек с ватой – сомалакан фатача. Анна Смоляк рассказывает, что все нанайские и ульчские матери отдают души детей на хранение дёкасон. Как правило, их получают от шамана назад только при женитьбе или выходе замуж. При камлании по любому поводу шаман заканчивает действо посещением дёкасона и рассказывает матерям, как чувствуют себя души их детей в его хранилище. Если ребенок, душа которого находится в дёкасоне, заболевает, то считается, что душа сбежала или украдена из-под надзора Майдя Мамы и шаман специально камлает, дабы вернуть ее на место [411]. Многочисленны случаи, когда нанайский юноша, отслужив в армии и вернувшись в родные места, первым делом навещает старика шамана, хранящего его душу, и лишь получив от него наставления и благословения, переступает порог отчего дома. Один из старых нанайских шаманов, уже знакомый нам Мало Онинка, с гордостью говорил Анне Смоляк: «Я как доктор помогал больным. Сохранял души детей. Сейчас они уже большие, в городе некоторые живут. Я ничего не записываю, а врачи записывают, кому помогли» [412]. И действительно, за свои услуги по предоставлению убежища никакой платы шаманы не просят. Это их долг и перед общиной и перед духами, посвятившими их в шаманство. Впрочем, порой в среде амурских аборигенов рассказывают ледянящие кровь истории о злых шаманах, которые кормят своих духов-помощников душами отданных им на хранение детей. Таких шаманов именуют черными и стараются обходить их подальше стороной. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ И РОСПУСК ДУХОВ В традиционном обществе существует обычай рассчитываться с работником вечером того дня, когда он закончил дело, для исполнения которого и был нанят. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» [Лев. 19, 13]. Шаман поступает со своими духами-помощниками по этому правилу. После камлания он предлагает им угощение. Вкусы духов, как я уже упоминал, могут быть очень своеобразны, но пренебрегать ими шаман не решается – одному духу предлагают жуков короедов, второму – железные опилки, третьему – мышей, четвертому – самородную серу. Каких-то устоявшихся правил в пищевом рационе духов нет. Разве что не рекомендуется кормить демонов сырым мясом, дабы они не озверели и не стали вредить людям [413]. Каждый из духов сам сообщает своему хозяину, что ему любо. А если вспомнить, что духи едят пишу «невидимо», в то время как ее материальную субстанцию должен съесть сам шаман, то мы не можем не согласиться, что во вкусовых пристрастиях духов колдуну мало корысти. Меньше всего похож шаман на алчного жреца-обжору, мечтающего полакомиться самыми вкусными кусочками жертвы. И это ясно свидетельствует в пользу совершенной реальности мира духов для шамана. Указания, чем их потчевать, духи дают колдуну вполне определенно, когда тот пребывает во сне, в трансе, в шаманской болезни. Нарушить эти указания, по всеобщему убеждению шаманистов, невозможно – иначе духи или накажут шамана тяжелой болезнью, или покинут его. Кроме кормления духов после каждого камлания, шаманы регулярно (у нижнеамурских народов дважды в году) проводят публичный обряд – кала - кормление всех помогающих им духов. Это дорогостоящий обряд, так как многие духи привередливы и требуют каких-то особых кусочков от редких диких животных и рыб (например, сердце пестрой утки), для добычи которых шаман вынужден платить деньги охотникам. Но отказать духам в желаемом шаманы редко решаются, хотя Моло Онинка и рассказывал, что прогнал одного духа за его крайнее пристрастие к сливочному маслу – «на такого не накупишься». Чаще наказывают духов за малоэффектипность их помощи. Если дух участвовал в камлании, обещал помочь, а больному чуть полегчало, а потом опять стало плохо, то ленивого духа ругали, переставали кормить, били прутиком, а то и выкидывали его идольчика. К обряду кала шаман тщательно готовится, собирает необходимые припасы, делает кушанья. Каждого духа он встречает особыми, любимыми духом песнями, его идольчика – аями окуривает дымом багульника, беседует с ним, рассказывает зрителям о повадках и достоинствах своего невидимого помощника, кормит, поит водкой (глоток или полглотка для каждого духа). Поскольку духов много, обряд длится долго. Любое камлание завершается жертвой и коллективной трапезой. В жертву приносят то животное, какое духи требуют в качестве выкупа за больного или попавшего в несчастье человека. В обряде кала сам шаман приносит в жертву поросенка или курицу, невидимая часть жертвы съедается духами, а все прочее – шаманом и его зрителями. «Как ни трудно было совершить этот обряд в материальном отношении, но, по свидетельству нанайцев, не было случая, чтобы эти древние ритуалы нарушались» – указывает Анна Смоляк, бывшая сама очевидцем кала в сентябре 1972 года [414]. Путешествуя в Алтайских горах, Вильгельм Радлов также обратил внимание на обычай совместной трапезы после камлания. Жертвенное мясо кам вначале предлагал духу бубна и духу хозяйского очага, а затем раздавал гостям, которые жадно поглощали полученные куски. «Наслаждающиеся сдой люди изображают поглощающих пищу невидимых духов» – констатирует ученый [415]. Тот же смысл имела и чудовищная попойка, которую учиняли алтайцы после жертвенной трапезы на третий день большого камлания: «Поглощаются огромные бурдюки айрана – молочной водки. Северные шаманисты, телеуты и шорцы варят вместо айрана ячменное пиво. Пьют, поют песни, кричат и смеются, пока большинство присутствующих не упьется до потери сознания, и на том самом месте, где они свалились пьяные, они и остаются лежать до утра, пока не проспятся. Опьянение не считается позором, оно рассматривается, как нечто совершенно естественное» [416]. Аналогичные обряды имеются и у иных шаманистов. В совместной трапезе духов и людей заложен большой смысл. Сотрапезничая, духи и люди становятся некоторым единством. Демоно-антропическим существом теперь является не только получивший посвящения шаман, но и заказчик камлания и его зрители. Обособленное колдовское действо, благодаря соучастию в камлании односельчан и в результате жертвенной трапезы, превращается в таинство единения людей с духами. Именно эти коллективные обряды, постоянно восстанавливающие связь (re-ligo) людей с демонами, и позволяют воспроизводить на протяжении тысячелетий шаманство как социально-религиозную форму. ШАМАНИЗМ КАК культурно-религиозное ЯВЛЕНИЕ Камлание на исцеление – это самая распространенная форма камланий. Шаман в первую очередь – врач. Но шаманисты просят камлать шамана и по множеству иных поводов – о даровании здоровья скоту, о прекращении падежа, об успешной охоте, о проводах умершей души, о необходимой погоде. Внешне все эти потребности очень напоминают религиозные потребности любого общества и потому между шаманом и священнослужителем подчас не проводят четкой разграничительной линии. Но шаман вовсе не дублирует функции священнослужителя теистического общества. Еще Вильгельм Радлов указывал в своих заметках по шаманизму: «Не только шаман делает погоду, пророчествует и т. д. В торжествах по поводу рождений, свадеб и смерти шаман не принимает никакого участия, и только если этим событиям сопутствуют неблагоприятные предзнаменования, которые люди хотят попытаться обезвредить с помощью заклинаний, то зовут шамана» [417]. Современные, более точные знания о шаманизме несколько расширяют функции камлания. Например, в заупокойных ритуалах шаман совершенно незаменимый участник, но, в сущности, замечание исследователя XIX века справедливо. Ведь все, что связано со смертью и потусторонним миром может рассматриваться как нечто «неблагоприятное», выпадающее из истинного порядка мира, где смерти нет места. Потому-то на похороны и заупокойные обряды зовут шамана. «Страх перед силами тьмы, преследующий шаманиста, – из-за чего он никогда не чувствует себя в безопасности, – заставляет его искать способ, с помощью которого можно узнать заранее о намерениях злых духов, предотвратить их нападения, привлечь на свою сторону. Такой способ он видит только в содействии всемогущих шаманов, которые, благодаря посредничеству своих предков, могут вступать в связь с силами нижнего мира, ублажать их дарами и, исполняя все их желания, предотвращать грозящие человеку несчастья» [418]. Сегодня лучше, чем во времена В. Радлова известно, что шаман не просто угодливый раб духов, но их полноправный союзник и соперник, решающийся порой, собирая в своем бубне множество духов-помощников, на жестокое противоборство с силами тьмы. Однако, по существу, вывод автора «Из Сибири» трудно оспорить. Силой, заставляющей соплеменников обращаться к услугам шамана, является страх. Наш старый знакомец, Мало Онинка, рассказывал в 1973 году Анне Смоляк: «Я в тайге боюсь спать один – чертей кругом много. Сделал девять стружек, опоясался, на шею повязал – успокоился: теперь черт не тронет» [419]. Эти удивительные стружки – гиасидан – широко распространенный среди нанайцев способ беречься от злых амбанов, которые в них «запутываются». Стружки используются во многих обрядах. С больного чертей счищают стружками. «Без стружек не очистишься» – объясняют нанайцы. Но, разумеется, не любая стружка обладает столь удивительными силами. Гиасидан – стружка особая. При ее изготовлении шаман просит духовпомощников войти в нее и уберечь того, кто будет ею пользоваться, от зла. Оберегают не стружки, а духи по просьбе шамана в них пребывающие. Алтайский шаман обходится без стружек, но и он очищает заказчика камлания от всякой скверны. Для этой цели здесь используется шаманский бубен и колотушка. Проводя поперек спины заказчика колотушкой, шаман говорит: Вынь выпущенную стрелу! Возьми ее, мой искусный посланник! Не возвращайся шестьдесят лет! Оставайся вдали семьдесят лет! Возьми выпущенную стрелу! Унеси ее отсюда быстрее, чем текут речные воды! Затем всех членов семьи заказчика камлания шаман обнимает так, чтобы заключенный в объятия был между бубном (прижат к груди) и колотушкой (к спине). Духи, находящиеся в бубне и колотушке, очищают людей от беды [420]. Таким образом, страх перед духами изгоняется не обращением к силе, большей чем духи, не призыванием их Создателя Бога, но заключением соглашения с одними духами против других. Шаманист является актером драмы, разыгрываемой исключительно в мире духов. Следствия этого ограничения духовного кругозора проявляются сразу же. «В мире шаманства нет вечной справедливости. Как боги света, так и боги тьмы отнюдь не действуют исключительно в соответствии с этическими принципами. Их можно подкупить и воздействовать на них с помощью сладких жертвенных яств, и получив богатые дары они охотно смотрят на многое сквозь пальцы. Они завидуют богатству людей и ото всех требуют дани. Поэтому постоянно необходимо вступать в сношения с духами света и тьмы при посредстве имеющих особый дар людей» [421]. Мысль В. Радлова предельно ясна и хорошо отражает этическое существо шаманизма. Поскольку абсолютный центр добра выведен за пределы ценностной системы шаманиста, то все духи только относительно добры и относительно злы. От человека ожидается не следование Абсолюту, Который защитит его от всех напастей темных сил, не борьба с собой, не внимательное наблюдение за собственной душой – не вошел ли в нее враг, не стала ли она противником Благу, добровольно согласившись на зло, – нет, шаманист смотрит не в себя, но вовне, в мир, который полон опасностей внешних, опасностей от своенравных, жадных и злых духов. Он пребывает в постоянном страхе. Но этот страх не похож на страх человека теистической религиозности прогневить Бога и лишиться Его защиты. Страх шаманиста совершенно иного рода – он боится внешнего мира, его стихий и сил, поскольку, в сущности, он совершенно открыт всем этим стихийным силам. Он беззащитен перед ними, и только вступая с некоторыми из них в соглашение, подкупая их жертвами, соединяясь с ними в инициациях, надеется шаманист уберечь себя от гибели. Но надежда эта всегда остается зыбкой: духи своенравны. Обращаясь к обитателям Филипп (город в Македонии), апостол Павел поучал их: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» [Фил. 4.6]. Такая свобода «сынов Божьих» не известна шаманистам, всегда заботящимся об угождении многим хозяевам и всего страшащимся. Мне уже приходилось говорить об этическом релятивизме современных неписьменных народов. Изучение шаманизма открывает в этом явлении новую грань – люди неукоренены в добро потому, что в мире духов такое укоренение невозможно. Чтобы встать на твердую нравственную почву, необходима абсолютная точка отсчета. Она легко обретается в теистической религиозности, а вот в мире духов ее нет. Шаманизм – это строй души и форма духовного устроения человека, оказавшегося вне теистической религиозности. Поскольку выбор добра требует волевого акта, сознательного действия души, то можно предположить, что шаманизм возник не случайно: он стал формой религиозного существования там и тогда, где и когда люди предпочли служение самим себе служению Абсолютному Благу, Подателю жизни и полноты бытия. Шаманист не согласится с предположением, что он служит духам. Нет, он, с помощью шамана, пытается заставить духов или служить, или, по крайней мере, не вредить ему самому. Шаманист себя ставит в центр вселенной, из которой устранен Бог. И что же? В результате мы видим вымирающие народы, жестоко теснимые цивилизацией на периферию обитаемого мира. Мы должны задаваться вопросом: почему неписьменные народы остались неписьменными, почему они не разделили судьбу иных племен, вот уже пять тысячелетий строящих письменную сложную цивилизацию. Ответов может быть два – или неспособность к высоким формам социальной и интеллектуальной организации, или нежелание. У нас нет никаких оснований подозревать шаманистов в органической неспособности к государственности или к книжной культуре. Многочисленные факты превращения неписьменных народов в письменные, догосударственных в государственных – явное тому доказательство. Но всякий раз такое обращение проходило и при изменении религиозной основы народной души. Над миром людей и духов вновь воцарялся его Создатель. Переход к государственности всегда был концом шаманизма. Следовательно, и неспособность к государственности, и цивилизации есть следствие волевого отказа поместить Абсолютное начало в центр своего умственного космоса. Так же как государственность, по моему убеждению, есть вторичный результат теизма, и шаманизм есть вторичный результат отказа от признания за Творцом Его прав на сотворенное Им. Возвращаясь на уровень конкретного религиоведения, зададимся вопросом, когда имел место этот отказ. Ответить нелегко и, в сущности, мы будем искать ответ во всем курсе «Истории Религий». Однако необходимо отметить, что в фольклоре всех неписьменных народов присутствуют рудименты былой, теистической картины мира, но как бы в неактуализированном и необязательном состоянии. Мирча Элиаде как-то заметил, что «экстазы шаманистского типа кажется могут быть документированы с эпохи палеолита» [422]. Даже если это и так, то все равно шаманизм безусловно не был доминирующей формой религиозности в доистории. Шаманизм нигде не порождает ныне великих цивилизаций и непонятно, как древнейшие государства могли появиться, если общества, их создавшие, были шаманистическими. Скорее иное – шаманизм, колдовство суть формы вторичной деградации теистических практик. Если эти деградации имели место до того, как общество перешло к государственности, то народ, предпочтя обходиться без служения Богу, одновременно остался и без плодов этого служения, то есть без письменной культуры, государства, сложно организованной общественности. Из поздненеолитических обществ, из мегалитической религиозности IV-III тысячелетий до Р. Х. шли два пути – в государственность теистического типа и к стагнировавшему, остановившемуся в развитии обществу, отказавшемуся от служения Богу и успокоившемуся в мире духов. Быть может, первые выборы сделаны были еще раньше, при переходе от палеолита к неолиту. На это намекает существование весьма архаичных сообществ, не знающих производящего хозяйства – коренные жители Австралии и Тасмании, Огненной Земли, некоторые племена пигмеев Центральной и Южной Африки. Не уклонились ли предки этих племен от теизма к демонизму тогда, когда для продолжения «хождения пред Богом» надо было затратить изрядные усилия, косвенным следствием которых стала неолитическая революция? В то же время в шаманских практиках заметны элементы и исторических религий – на некоторые из них я уже указывал. Иные шаманские песнопения сибирских народов поразительно напоминают ведические гимны, а предания – мифы, за ними стоящие. Вот, например, гимн огню, записанный И. А. Худяковым: «Этого Господа Бога меньший сын Далан Дарган с чисто белыми наколенниками, Баябат Дьяло, Раздвоившийся хвост, Удачные когти, Львиная доха, Рысья шапка, Плеть из падающей звезды, Мелкая седина, господин дедушка, дух священного огня ведь ты, однако! Пришедши на это среднее место для волнующегося белого дыхания трех [племен -?] якутов, тридцать лет ты лежал неподвижно! Когда Господь Бог прогонял тебя на среднее место, чтобы было дыхание кругом четырех [колен] якутов, ты спустился, держа в правой руке веселую серебряную плеть! Ты спустился, держа в левой руке большой меч. Ты спустился, держа вместе с тем в правой руке медный с побрякушками ожиг. Ведь ты, милующий нас, скрывай же ты нас в ширине твоей и завертывай в узком! Выпаривай нас, душу людей твоих и твоего скота в трехпоясном, глухо серебряном твоем гнезде и не давай нас восьми хитростям восьминогого Аан Адьарай Бёгё [главе нижних злых духов]… Готовы тебе сливки новодоек, отстой [молока] стародоек, наше желтое масло. Стой, вполне наевшись!» [423]. Шаман почти безусловно воспроизводит в этой, не очень ладно переведенной песне, древний ритуальный контекст, но сам ритуал, в точном смысле этого слова, для него не существует. Задача соработничества Богу в гармоническом хранении мира, столь актуальная для древних ритуалистов, равно индо-арийских или семито-хамитских, шаману чужда. Осталась только память о когда-то бывшем деле, а само дело утрачено. «У всех народов… – указывал Мирча Элиаде [424], – шаманизм обнаруживает прямую зависимость от заупокойных верований (Гора, Райский остров, Древо Жизни) и от космологических представлений (Ось Мира – Мировое Древо, три космические зоны, семь небес и т. п.). Занимаясь своим ремеслом целителя или проводника душ, шаман пользуется традиционными сведениями о загробной топографии, сведениями, основанными в конечном счете на архаической космологии». Другими словами, шаман помнит иной религиозный строй давно ушедшей жизни, но заимствует из него лишь «фактуру», пренебрегая той сущностью, которой жила архаическая вера. В шаманизме мы, при внимательном вглядывании, можем различить пласты отвергнутых дерзаний человеческого духа. Мирча Элиаде предлагает весьма интересную концепцию появления шаманизма: «Нельзя ли эту, отклоняющуюся от нормы технику, помимо «исторических» объяснений, которые можно было бы для нее найти… интерпретировать также в другом плане? Например, не обязано ли отклонение шаманского транса от «нормы» тому факту, что шаман пытается опробовать на конкретном опыте символику и мифологию, которые по самой своей природе (так как имеют отношение ко временам предбытийным. – А. З.)не подлежат эксперименту, не поддаются конкретной «проверке опытом»; одним словом, не стремление ли достичь любой ценой и неважно каким способом вознесения во плоти, мистического и в то же время реального вознесения на Небо, – не оно ли привело к ошибочным трансам, которые мы наблюдали; не является ли, наконец, такое поведение неизбежным следствием отчаянного желания «пережить», а иначе говоря, «опробовать на опыте» то, что в нынешнем человеческом состоянии (греховности, падшести. – А. З.)возможно лишь в плане «духа»?» [425]. Понятно, что такое дерзание в человеческом существе, как в существе мыслящем, не может возникать и тем паче реализовываться стихийно, но всегда предполагает целенаправленную и сознательную волю. Неписьменный характер тех культур, от которых «откололся» шаманизм, дает нам мало надежды найти памятники слова со следами волевого выбора. Но рассматривая современный диалог шаманизма с теистическими религиями, мы обнаруживаем детали, помогающие восстановить картину того драматического самоопределения. Сами шаманисты, несмотря на то, что они большей частью люди простые и не склонные к интеллектуальным рефлексиям, достаточно ясно сознают отличность своего духовного мира от мира теистической религиозности. Ссылаясь на Джонатана Ригга, Эдвард Тайлор сообщает о характерном обычае, распространенном среди западнояванского племени саджиру: «Саджиры, живущие в этой области, исповедуют ислам, но втайне придерживаются своей прежней веры (то есть шаманизма. – A.3.) и при смерти или погребении торжественно увещевают душу отказаться от мусульманского Аллаха и направиться к местопребыванию душ своих предков» [426]. Иными словами, саджиру прекрасно понимают, что исламский рай – сад друзей Божьих (джаннаха вали Аллах) и загробный мир предков-демонистов суть вещи совершенно различные и из одного в другой перейти невозможно, если не совершить волевого отречения от одной из вер. Вильгельм Радлов [427] в своем очерке шаманства рассказывает о беседе, которую он вел в духовной миссии на реке Кебизень (Горный Алтай, современный поселок Турочак) с двумя крещеными шаманами, желая узнать поподробнее о их былых верованиях. К большому огорчению путешественника, его собеседники всячески старались уйти от разговоров на эту тему, и в конце концов объявили: «Наш прежний бог уже и так разгневан, что мы его покинули; что же он сделает, если узнает, что мы теперь еще и предаем его? Но еще больше мы боимся, что русский Бог услышит, как мы говорим о старой вере. Что же спасет нас тогда?». Крестившиеся шаманисты, как можно видеть из этого высказывания, ясно сознавали колоссальную различность между своей «старой» и новой верой. В другом месте очерка В. Радлов, сам – человек вполне светский и скептический – констатирует: «И уже давно крещеные и лишь недавно перешедшие в христианство алтайцы, телеуты и т. д., так же как и русские, считают шамана настоящим слугою дьявола, который своим камланием действительно может свершить нечто сверхъестественное… Алтайцы недавно крещеные и, как я удостоверился, действительно принявшие христианство по убеждению, заболев, все еще ночью тайком зовут шамана, чтобы он своей дьявольской силой отвратил беду, и что наряду с верой в божественную мощь христианства нерушима вера в дьявольскую силу заклинаний» [428]. Здесь ученый вскрывает сущность так называемого «двоеверия», часто приписываемого и русскому простонародью. Крещеные шаманисты, признавая великую силу «русского Бога», не считают его, однако, всесильным. Кое в чем Он все же уступает тем духам, служителем которых является шаман. Это вообще характерная черта демонистической религиозности, в которой отсутствует абсолютная духовная сила и все силы как этого, так и тех миров – относительны. Для шаманиста, даже сознательно принявшего таинство крещения, Бог христианства остается лишь одной из сил, Он не переживается как всесильный, как Творец (поскольку Творец не может не иметь полноты власти над сотворенным Им). В душе обратившегося к христианству шаманиста Бог остается кем-то наподобие высших духов его прежней веры – Бай Ульгена, Эндури, Кайра Хана. Именно поэтому есть сферы жизни остающиеся вне Бога, и для решения задач, в этих сферах возникающих, оказывается необходимым обратиться к услугам шамана-колдуна. Настоятель храма села Троицкого на Амуре (на этом месте в 1930-е годы был построен город Комсомольск) писал в отчете Святейшему Синоду: «Местные гольды отходят от язычества и так хорошо воспринимают наше вероучение, что перед уходом на охотничий промысел жители одного селения заказали нашему священнику провести молебен. Священник это сделал с удовольствием, а гольды усердно молились, как он им велел». Комментируя это сообщение Анна Смоляк пишет: «Разумеется, обращение нанайцев к священнику, так же как призывы к Лаоя и Саньси (духи, владыки различных небесных сфер. – А. З.), отнюдь не означало отказа нанайцев от старинных верований; просто они воспользовались присутствием священника, что, по существу, означало «авось, и русский бог также поможет»… Нанайцы в начале XX века ходили в церковь по воскресениям, крестили детей, некоторые даже венчались. Но и до сих пор вера в традиционных богов и духов среди пожилых людей не утрачена» [429]. В сущности же, здесь мы сталкиваемся с известным феноменом религиозного сознания. Когда человек не чувствует в себе достаточно воли и готовности всецело предаться Творцу, он компенсирует собственное малодушие и увлеченность миром самим по себе, отделяя от Бога те области своего существования, в которые сам не желает Его допускать. Но «свято место пусто не бывает», и в те области бытия, из которых изгнан Бог, вторгаются духи, к помощи которых и прибегает двоеверец. Такая христианизация делает христианство только элементом шаманистического комплекса, а христианский Бог пополняет «каталог духов» шаманиста, и мало утешения для миссионера, если в катологе этом Творец всяческих получает даже одно из первенствующих мест. При встрече шаманизма с исламом возникают очень сходные двоеверные формы, но из-за меньшей догматической четкости ислама в сравнении с христианством и меньшей иституциональной организованности, шаманизму кое-где удается сосуществовать с верой пророка Мухаммеда подлинно «нераздельно и неслиянно». В законах XVIII века малайского княжества Перак сказано: «Муеззин – это хозяин в мечети, а паванг – хозяин в доме больного, на рисовых полях, рудниках. Он должен быть проницательным, обходительным, трудолюбивым, правдивым, не влюбляться в женщин. Если кто-нибудь заболел, паванг должен немедленно прийти на помощь. Паванг не может быть лживым, надменным, вспыльчивым, корыстолюбивым» [430]. А между тем паванг - это типичный шаман. Вот как описывает его врачебную помощь очевидец: «Я сам видел, как он подпрыгивал, падал на землю, катаясь из стороны в сторону, не меняя при этом положения рук. Он то бегал по определенному огражденному месту, то падал на землю, то садился: он кричал, рычал, читал заклинания и молитвы. Когда дух «дедушки» (так именуют духатигра в условном языке малайских колдунов. – А. З.)садился ему на руку, он начинал читать отрывки из Корана по-арабски или призывал Аллаха; когда им овладевали духи, он произносил заклинания, стонал, иногда делал неясные намеки, которые вызывали взрыв хохота в толпе» [431]. «Обряд лечения, проводимый бомором (особо сильные паванги, наученные своему искусству не людьми, но духами во сне. – А. З.)в современной малазийской деревне, почти ничем не отличается от вышеописанного» – комментирует это сообщение Елена Ревуненкова [432]. Подобным же образом ведут себя и среднеазиатские шаманы-целители баксы. Даже внешне, прической и одеждой, они резко отличаются от обычных мусульман. Баксы не скрывают, что искусство и сила их происходит от джинов (духов), и в то же время они хотят считаться правоверными и боятся прослыть капырами (немусульманами). Прошения баксы при камлании плавно переходят от молений Аллаху и Его Пророку к Чингис-хану, духам гор и рек, к покровителям рода и к предкам больного. Простые киргизы и казахи охотно пробегают к услугам баксы, но культурные исламисты чураются даже приближаться к таким «целителям». В. Радлов рассказывает, что он видел собственными глазами, как татарские купцы, увидев баксу, «с отвращением отворачивались и с ужасом отплевывались» [433]. Грань между демонистом и теистом достаточно определенно сознается и тем и другим. Они связывают себя с различными уровнями реальности и с несходными силами. Демонист еще может наивно полагать Бога теистических религий одним из многих духов своего привычного мира, но и тут среди людей немного искушенных, в среде шаманов, противопоставление «старой веры» новой обычно вполне сознательно даже при сохраняющемся «двоеверии». Что же касается последователей тех религий, которые учат соединению человека с его Творцом, то здесь двоеверие, уход в колдовство, в заговоры, обращение к шаманам и боморам всегда является безусловным признаком религиозной деградации, симптомом того, что человек, сознательно или подсознательно, то есть боясь признаться себе, не решается встать перед Всемогущим Богом, ощущая, что за такое высокое право от него требуется колоссальная жертва – жертва собственным эгоизмом, самостью. Не каждый, далеко не каждый и человек и народ готов к принесению такой жертвы. А коли человек не жертвует собой, то Бог покидает пространства его ума, оставляя его один на один с бесчисленными духами, в мире которых такому человеку приходится научаться теперь жить. Прав был, видимо, С. М. Широкогоров, когда наименовал шаманизм «способом самозащиты и проявлением биологических функций рода» [434]. Сам себя поставив в положение «жизни вне Бога», человек смог приспособиться к новой ситуации и биологически выжил, создав шаманизм – способ взаимодействия обезбоженного человека с миром духов. Но цена такого выживания оказалась немалой – тягостное, нищее существование за окраиной цивилизованного мира, вечный страх от бесов и дурная бесконечность инобытия, в котором течет тот же Амур, высятся те же сопки, и предки с ужасающей монотонностью отправляются бросать невод и стрелять диких оленей. Оставаясь в границах шаманства еще ни одна человеческая общность не смогла создать цивилизацию, государственность, преемственную письменную культуру. Только сознательное волевое обращение к забытому Творцу превращало выживание в напряженную и осмысленную жизнь, вело к великим достижениям в этом мире и успокаивало души надеждой на величайшую из возможных для человека целей, на восстановление единства твари со своим Создателем. История шаманизма подтверждает истину, высказанную две тысячи лет назад: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» [Лк. 10.20]. Словами этими подводится итог вековому спору демонизма с теизмом. |
|
|||
|
Главная | Контакты | Прислать материал | Добавить в избранное | Сообщить об ошибке |
||||
|
|
||||
